Протестное послание: треть россиян заметила заграничные акции оппозиции — и это не так мало
Опрос «Левада-центра», проведенный в конце ноября в России, показывает, что треть респондентов знают о марше российской оппозиции, прошедшем в Берлине 17 ноября. Это является достаточно высоким результатом для ситуации тотального контроля Кремля над внутрироссийскими СМИ и репрессивного климата мнений.
13% опрошенных отнеслись к маршу одобрительно, 23% — неодобрительно и половина опрошенных — нейтрально. Такие распределения были характерны и для оценок россиянами митингов демократической оппозиции в 2021 году. А выражение «нейтралитета» в условиях информационно-пропагандистского прессинга может подразумевать как отстраненность от политических повесток, так и нежелание присоединяться к «осуждению» протестующих. В то же время молодежные когорты гораздо менее осведомлены о марше, нежели старшие, и реже выражают сочувствие протестующим.
Наибольшей узнаваемостью (на уровне 65–70%) среди лидеров демократической оппозиции располагают Юлия Навальная, Михаил Ходорковский, Григорий Явлинский и Гарри Каспаров. Однако доля респондентов, выразивших доверие к ним, минимальна, причем не только среди лояльных, но и среди потенциально нелояльных режиму групп. Это свидетельствует о слабой актуализированности фигур оппозиционеров.
В целом же опрос показывает, что формат протестного митинга или шествия остается эффективным и способствует информационному проникновению повестки оппозиции внутрь России. Вместе с тем становящееся своего рода лицом протеста трио Навальной, Яшина и Кара-Мурзы обладает недостаточным политическим весом и воспринимается скорее в активистской среде.
Для усиления своего голоса новым лидерам стоит, вероятно, расширить «протестную трибуну», пригласив на нее как других оппозиционеров с высокой узнаваемостью, так и лидеров общественного мнения из числа писателей, артистов и прочих публичных фигур. Последнее особенно важно, поскольку символически демонстрировало бы расширение повестки протеста от активистской до общегражданской.
Российская оппозиция за рубежом объявила о новом шествии 1 марта под лозунгом «Путин, хватит убивать», приуроченном к трем кровавым годовщинам — начала войны в Украине, а также убийств Бориса Немцова и Алексея Навального. Тем временем недавний опрос «Левада-центра» демонстрирует, что россияне не так плохо осведомлены о предыдущем шествии оппозиции, прошедшем в Берлине и других европейских городах 17 ноября.
Слышали о нем, согласно данным опроса, треть респондентов (34%). Это, разумеется, не идет ни в какое сравнение с осведомленностью об оппозиционных акциях 2019–2021 годов в Москве, Хабаровске и по всей стране, о которых знали тогда 65–80% опрошенных, по данным того же «Левада-центра». Однако на фоне тотального контроля над СМИ внутри страны и репрессивного климата мнений эти данные свидетельствуют о существенном проникновении информации о деятельности находящейся вне страны оппозиционно-активистской «ризомы».
Впрочем, эта осведомленность имеет смещение в сторону старших возрастов: слышали о митинге 47% в когорте 55+ и только 25% среди тех, кому от 18 до 39 лет. Более информированы о нем те, кто ориентируется в информационном потреблении на телевизор и YouTube (41 и 38% — это полюса спектра лояльности/нелояльности режиму). Любопытно, что более осведомлены о митинге те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (36%), чем те, кто думает противоположным образом (31%). Все это указывает, что, по крайней мере частично, осведомленность россиян об акции связана с информацией, идущей от российского официоза.
Шествие 17 ноября, как известно, прокомментировал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, продвигавший стандартный нарратив диктатур о том, что выехавшие под угрозой репрессий за границу представители оппозиции «оторваны от страны». Однако распределение оценок берлинского шествия в «левадовском» опросе выглядит достаточно обычным для политических акций демократической оппозиции: 14% заявили о положительном отношении к событию, 23% — об отрицательном и 51% — о нейтральном. Примерно таким же и даже несколько хуже (с поправкой на более высокую степень информированности) соотношение было и в случае митингов в поддержку Навального в 2021 году. Доля негативных оценок в 2–2,5 раза превышала долю позитивных. В условиях информационно-идеологического прессинга «нейтралитет» в ответах маркирует не только отстраненность от политической повестки, но и нежелание присоединяться к официальной позиции осуждения «отщепенцев».
«Как вы относитесь к людям, которые выходили на эти протестные акции?», 2019–2024, % от числа опрошенных
Бо́льшая осведомленность о событии в той или иной социально-демографической группе коррелирует с более благожелательным отношением к акции: положительно относятся к ней 21% среди тех, кому за 55; 17 и 16% — соответственно, среди аудитории YouTube и телевизора. Более благосклонны к оппозиционному митингу более бедные (20%), а наиболее враждебна — аудитория Telegram-каналов, аккумулирующая в настоящий момент в России и не только в России (→ Re: Russia: Телеграмма из Кремля и ее читатели) в большей степени консервативный, нежели прогрессистско-демократический активизм (27% ориентированных на Telegram в получении информации негативно отнеслись к шествии оппозиции).
К конкретным цифрам этих распределений следует относиться с осторожностью — с высокой вероятностью они отражают консервативное смещение среди участвующих в опросах россиян. Однако они, безусловно, значимы в отражении общих тенденций: во-первых, существенного уровня общей информированности россиян о зарубежных акциях оппозиции и, во-вторых, сравнительно низкой информированности и, соответственно, низкого уровня сочувствия к ним среди молодых поколений (среди тех, кому от 18 до 39 лет, выразили одобрение зарубежных митингов только 9%, то есть более чем вдвое меньше, нежели среди тех, кому за 55).
Данные «левадовского» опроса об отношении к оппозиционным политикам отражают вполне характерную для авторитарного климата мнений и тотального информационного контроля картину. Наиболее высокая узнаваемость у пользующегося благосклонностью официозного телевизора коммунистического аксакала Зюганова, которого знают 85% опрошенных. 65–70% опрошенных знают также Леонида Слуцкого (благодаря телевизору) и Григория Явлинского, а также Юлию Навальную, Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова. В следующей категории узнаваемости (40–55% знающих) оказались Захар Прилепин, Павел Грудинин, Борис Надеждин, Илья Яшин, Максим Кац и Игорь Гиркин. (Следует помнить, что два оппозиционных политика с самой высокой узнаваемостью и самым большим «политическим багажом» — Борис Немцов и Алексей Навальный — были убиты в течение последних 10 лет.) Примерно такие же цифры узнаваемости основных фигур оппозиции дает и телефонный опрос, проведенный независимыми исследователями.
Относительно высокие показатели одобрения ожидаемо имеют «телевизионные» системные оппозиционеры (20–40%), в то время как о доверии к наиболее заметным представителям демократической оппозиции заявляют 6–7% участников опроса. При этом цифры доверия не слишком сильно различаются среди более и менее лояльных режиму групп респондентов (тех, кто считает, что страна идет в правильном направлении, и придерживающихся противоположного мнения). Это свидетельствует о том, что фигуры оппозиционеров неа актуализированы даже в тех сегментах, где потенциальный спрос на политическую альтернативу более высок. При этом сформированные официозом антирейтинги представителей демократической оппозиции находятся на уровне 45–55% среди всех респондентов и на уровне около 40% среди тех, кто считает, что дела в стране идут в неправильном направлении.
Относительно высокий уровень информированности россиян об акциях оппозиции и достаточно высокая узнаваемость наиболее заметных фигур оппозиционного лагеря указывают, что потенциал их более внятного и актуализированного присутствия в российском информационном пространстве существует. По данным недавнего доклада JX FUND, аудитория релоцированных российских медиа продолжает расти, несмотря на усилившееся противодействие им в российском сегменте интернета; о росте аудитории независимых и оппозиционных медиа и публичных фигур в YouTube, несмотря на его замедление, свидетельствует и закрытый рейтинг YouScore.
Более благоприятную ситуацию для расширения присутствия оппозиции в информационном пространстве создает выдвижение на первый план трио Юлии Навальной, Ильи Яшина и Владимира Кара-Мурзы и некоторое снижение уровня конфликтности в оппозиционной среде, который в течение предыдущих двух лет привел к разочарованию многих активистов в российской оппозиции и в деятельности ФБК (→ Mikhail Turchenko, Margarita Zavadskaya: Russian Wartime Migrants). Однако политический вес нового трио остается недостаточным, а его наиболее узнаваемая фигура — Юлия Навальная — пока занимается политической деятельностью достаточно спорадически и не имеет значительного присутствия в русскоязычном медийном поле. Для усиления своего голоса новым лидерам стоило бы, вероятно, расширить «протестную трибуну», пригласив на нее, как это обычно делается, как других оппозиционеров с высокой узнаваемостью, так и лидеров общественного мнения из числа писателей, артистов и прочих публичных фигур. Последнее особенно важно, поскольку символически демонстрировало бы расширение повестки протеста от активистской до общегражданской.
Что касается самой релоцировавшейся оппозиционной среды, то она разделена между двумя различными «антивоенными» дискурсами, существование которых обрисовала в статье для Re: Russia российский оппозиционный политик Юлия Галямина. В то время как один из них транслирует украинско-европейский взгляд, связывающий возможное крушение путинского режима с военным поражением и будущим переучреждением российской государственности и возлагающий ответственность за войну не только на режим, но и в целом на российское население, второй в большей степени обращен к открытым и потенциальным противникам войны и диктатуры внутри России и рассматривает российских граждан скорее как заложников, чем соучастников путинских преступлений. Полемика двух взглядов принимает форму острого спора о российском триколоре: в то время как одна партия рассматривает его как флаг российской военной агрессии, другая стремится отделить его от «путинизма», напоминая о роли флага как символа демократической России и борьбы с коммунистической диктатурой в событиях начала 1990-х годов.
В целом, как показал опрос, формат шествия вполне работает как информационное событие и позволяет оппозиции бороться за свою субъектность в том числе и внутри России, однако требует продуманного высказывания, расширения «оппозиционного хора» и более систематического и разнообразного присутствия оппозиции в информационном поле в перерывах между митингами.
Читайте также
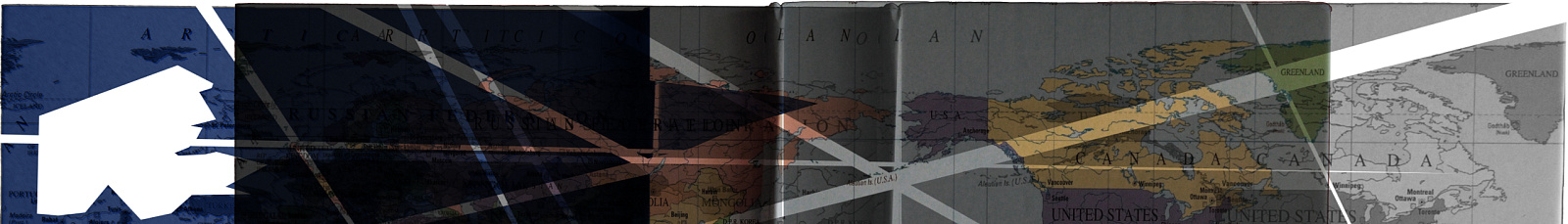 Непопулярный популизм: оценки Трампа в американских опросах снижаются, но не так фатально и быстро, как хотелось бы либералам
Главной опорой Трампа в американском общественном мнении стала антимигрантская кампания, а наиболее чувствительным оказалось ухудшение оценок и ожиданий американцев в экономической сфере. Ухудшаются также и оценки внешней политики Трампа, и в особенности его политики в отношении российско-украинского конфликта.
Поезд, ближний круг, Кремль: отношение россиян к войне в разных коммуникативных ситуациях
Непопулярный популизм: оценки Трампа в американских опросах снижаются, но не так фатально и быстро, как хотелось бы либералам
Главной опорой Трампа в американском общественном мнении стала антимигрантская кампания, а наиболее чувствительным оказалось ухудшение оценок и ожиданий американцев в экономической сфере. Ухудшаются также и оценки внешней политики Трампа, и в особенности его политики в отношении российско-украинского конфликта.
Поезд, ближний круг, Кремль: отношение россиян к войне в разных коммуникативных ситуациях
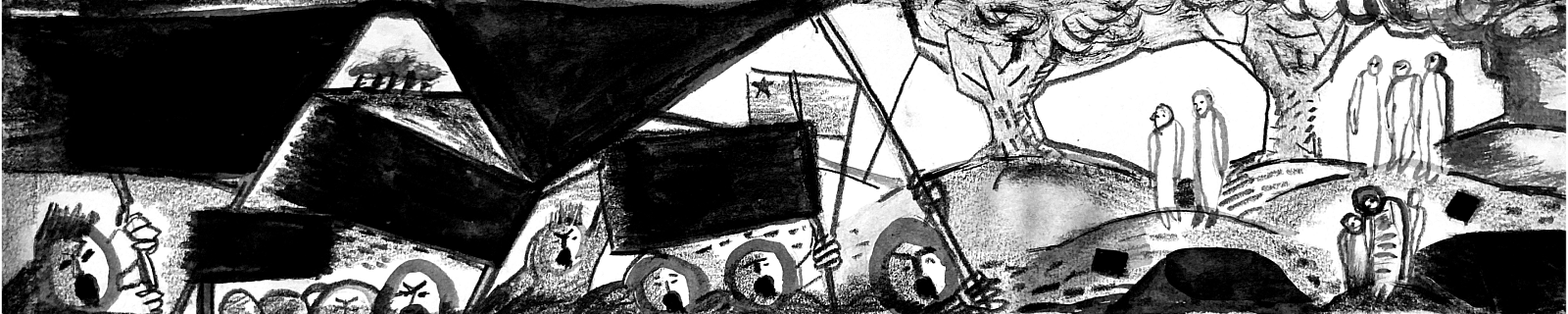 В представлении основной части респондентов они живут в обществе, где существует большее разнообразие мнений в отношении войны, чем может показаться, судя по их ответам на прямой вопрос социологов. Более того, значительная доля респондентов считает поляризацию мнений о «спецоперации» не феноменом своего ближнего круга, но характеристикой российского общества в целом, проявляющей себя на разных его этажах.
В представлении основной части респондентов они живут в обществе, где существует большее разнообразие мнений в отношении войны, чем может показаться, судя по их ответам на прямой вопрос социологов. Более того, значительная доля респондентов считает поляризацию мнений о «спецоперации» не феноменом своего ближнего круга, но характеристикой российского общества в целом, проявляющей себя на разных его этажах.
.jpg) Никто не верит Трампу: и в Украине, и в России граждане не доверяют его миротворческим инициативам, но надеются использовать их в своих целях
Украинцы поддерживают инициативу Трампа о тридцатидневном прекращении огня, однако большинство видит в этой поддержке лишь тактический ход. 80% украинцев отвергают ультимативные требования Кремля и в случае прекращения американской помощи считают должным продолжать сопротивление, опираясь лишь на поддержку из Европы.
Никто не верит Трампу: и в Украине, и в России граждане не доверяют его миротворческим инициативам, но надеются использовать их в своих целях
Украинцы поддерживают инициативу Трампа о тридцатидневном прекращении огня, однако большинство видит в этой поддержке лишь тактический ход. 80% украинцев отвергают ультимативные требования Кремля и в случае прекращения американской помощи считают должным продолжать сопротивление, опираясь лишь на поддержку из Европы.