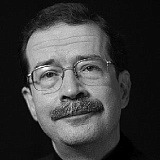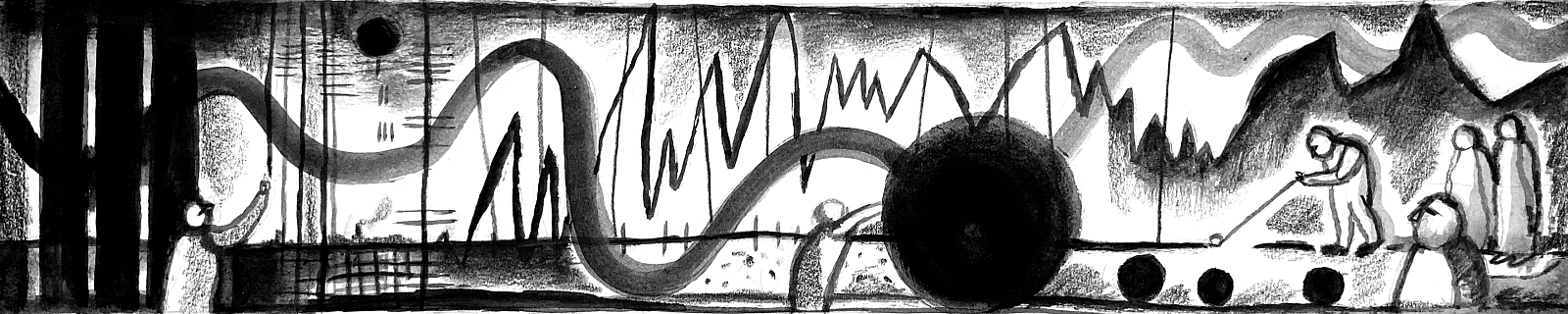
Постпутинизм: в какой логике и почему имеет смысл обсуждать его сегодня?
Вопрос «что дальше?» становится центральным для основной части российских думающих элит. Война в Украине стала вполне катастрофическим по своим масштабам кризисом системы власти и социально-политической модели, складывавшейся в России на протяжении двух десятилетий. Но этот кризис, уже сегодня имеющий колоссальную цену, обладает потенциалом дальнейшего развития и перерастания в тотальный кризис российской государственности. И пропагандируемый российскими властями сценарий «бесконечная война как новая форма нормальности» — прямой путь к этой точке.
Re: Russia продолжает серию публикаций о сценариях «постпутинской России», начатую статьей Никиты Савина «Путинизм без Путина». Сегодня мы представляем статью Андрея Яковлева, специалиста по институциональной экономике. Широкое обсуждение платформы постпутинского консенсуса сегодня — это возможность избежать гражданской войны в России, убежден он.
(Английский вариант текста первоначально был опубликован на сайте Russia Post.)
Данные социологических опросов, формирующиеся под влиянием госпропаганды и все более жестких репрессий в отношении противников войны, создают иллюзию стабильности путинского режима. В то же время начавшиеся в последнее время в России разговоры о «катастрофических последствиях распада страны» (в том числе выступления Путина на эту тему) отражают серьезный внутренний раскол в российском обществе и элитах. Можно спорить о реалистичности сценариев «распада», однако то ожесточение, которое генерирует агрессивная государственная пропаганда, направленная на усиление поддержки войны, будет неизбежно оборачиваться внутрь — усиливая противостояние между разными группами в элитах и в обществе. Накопление подобного внутреннего напряжения чревато социальным взрывом и переходом в состояние гражданской войны. На фоне наличия у России ядерного оружия такое развитие событий, помимо печальных последствий для нее самой, создаст серьезные угрозы для всего мира. Для предотвращения подобных сценариев уже сейчас необходимо думать о реалистичных моделях социально-политического и экономического устройства России и ее взаимодействия с миром после войны и после Путина.
Что мешает появлению позитивного образа будущего?
Недавнее интервью Григория Юдина является хорошей отправной точкой для выработки возможных моделей будущего. Вопреки доминирующему сейчас представлению о предопределенности «имперской политики», Юдин говорит о том, что в России 1990-х с учетом реально имевшихся идеологических альтернатив были возможны иные траектории развития. Соглашаясь с тем, что для «ресентимента» в массовом сознании были серьезные причины, он предлагает адекватную и корректно сформулированную оценку ошибок в политике Запада в отношении России в 1990-е и дает тревожную, но весьма реалистичную реконструкцию идей, бродящих в голове Путина.
Однако наиболее существенными в этом интервью, на мой взгляд, являются два тезиса. Первый — про необходимость провести грань между Путиным и Россией в целом (учитывая, что Россия, разумеется, далеко не едина). Если с Путиным договориться действительно нельзя — для него нынешняя война не может иметь конца, — то с разными группами внутри «остальной России» договариваться нужно. Если только цель состоит в том, чтобы по окончании войны (и после Путина) Россия не погрузилась в хаос гражданской войны, а перешла в сколько-нибудь устойчивое новое состояние. В этой связи важен второй тезис — про противопоставление «обиды» (на растравливание которой все эти годы делал ставку Путин, загоняя общество в тупик) и того, что в интервью Юдин обозначил словом «надежда» и что, со своей стороны, я определил бы как «позитивный образ будущего».
Выработка видения будущего для страны и для общества традиционно является одной из ключевых функций национальной элиты. При этом важно понимать, на какое будущее ориентируется высшая российская элита. Достаточно долгое время — в течение 1990-х и 2000-х годов — эти люди пытались стать частью «глобальной элиты». Однако события «арабской весны» (с персональными историями Хосни Мубарака и Муаммара Каддафи) и массовые протесты в России 2011–2012 годов породили у них страх перед любыми сценариями будущего, предполагавшими политическую или экономическую либерализацию.
В результате в качестве единственного приемлемого сценария, способного обеспечить Путину и его ближнему кругу сохранение власти, высшая элита стала рассматривать модель «осажденной крепости». И уже как минимум десять лет, несмотря на издержки, которые этот курс несет для других социальных групп, она последовательно изничтожает — путем дискредитации или «удушения в объятиях» — любые идеи и модели, которые могли бы стать альтернативой этому сценарию и могли бы дать разным группам ту самую «надежду», о которой говорит Юдин.
Такая политика неизбежно приводила к радикализации оппозиции: исходные требования честных выборов и пресечения коррупции с течением времени все более превращались в повестку «борьбы с режимом» при отсутствии убедительного альтернативного конструктивного предложения для общества и для элит. В этом отношении достаточно показательно недавнее интервью Юрия Дудя с соратницей Алексея Навального Марией Певчих, в котором приводились многочисленные примеры коррумпированности высшей российской бюрократии и сотрудничества олигархов с путинским режимом, но никак не обсуждались вопросы о возможном месте для нынешних чиновников и крупных предпринимателей в постпутинской России.
Сужение социальной базы Путина — и отсутствие альтернативы
В результате на сегодняшний день складывается отчасти парадоксальная ситуация. В отличие от аннексии Крыма, которая привела к широкому «крымскому консенсусу» в российском обществе, война с Украиной вызвала в обществе явный раскол. Можно обсуждать, какова доля явных противников войны и ее активных сторонников, но очевидно, что среди российских граждан нет широкого «консенсуса» в поддержку войны. Косвенным подтверждением этому служит неуклонное ужесточение репрессий против тех, кто так или иначе заявляет о своей антивоенной позиции.
Помимо этого, возникло очевидное напряжение в элитах, поскольку для большей — если не подавляющей — части бизнеса и гражданской бюрократии война связана с явными потерями и издержками (убедительные подтверждения этого приведены, в частности, в недавнем обзоре Александры Прокопенко). Уголовные дела последних лет против федеральных министров (Алексей Улюкаев и Михаил Абызов), региональных губернаторов (Никита Белых, Вячеслав Гайзер и другие), миллиардеров (Глеб Фетисов, братья Магомедовы и другие), десятков мэров крупных городов, а также серия внезапных смертей топ-менеджеров госкомпаний в течение 2022 года создали среди чиновников и крупных предпринимателей атмосферу страха. При этом многие из них вполне ясно понимают, что впереди страну ждет абсолютный тупик. В результате за последний год произошло серьезное сужение социальной базы Путина в элитах, что делает внутриполитическую ситуацию неустойчивой, несмотря на постоянную демонстрацию стабильности режима для внутренней и внешней аудитории.
Безусловно, в ближайшие месяцы на внутриполитическую динамику будет прежде всего влиять развитие событий на фронте. Тем не менее на данный момент видимого раскола в элитах нет. И одна из причин этого состоит в том, что в качестве альтернативы путинскому режиму элиты пока видят либо владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с его ничем не прикрытой пропагандой насилия и открывающейся перспективой движения России к модели ДНР/ЛНР, либо сторонников Алексея Навального с ожиданием широких люстраций в госаппарате и изъятия собственности у «коллаборантов режима» среди предпринимателей. В итоге обе альтернативы для деловой и бюрократической элиты выглядят хуже того, что есть сейчас, даже несмотря на продолжающуюся войну и нарастающий скептицизм в отношении действий Путина. Такому эффекту способствует и политика персональных санкций со стороны ЕС и США, которые по факту толкают представителей элиты обратно в путинскую «осажденную крепость».
Пугая широкую публику Пригожиным и работая на раскол оппозиции, режим стремится зафиксировать нынешнее равновесие, которое обеспечивает высшей элите продление ее пребывания у власти. Однако консервация такого состояния будет означать дальнейшее движение по спирали вниз. Наглядной иллюстрацией этого процесса является произошедшее на наших глазах превращение правоконсервативного Изборского клуба в мейнстрим — хотя еще несколько лет назад в идейном поле этот клуб воспринимался как группа маргиналов.
Агрессивная государственная пропаганда, направленная на консолидацию поддержки войны, оказывает серьезное влияние на отношения между людьми и способствует ожесточению в обществе. После ухода Путина подобное состояние общества создает значительные риски дестабилизации, которая может перерасти в полноценную гражданскую войну. Возникает аналогия с периодом 1918–1920 годов, когда после огромных потерь в ходе Первой мировой войны и краха царского режима неспособность основных игроков в правящей элите договориться друг с другом, а также с активными представителями других социальных групп втянула Россию в кровопролитную Гражданскую войну, приведшую в итоге к становлению тоталитарного режима.
Поиск консенсуса как альтернатива катастрофе
На мой взгляд, предотвращение подобного сценария возможно, если в сознании адекватных людей в элитах и думающей части общества сложится представление о конструктивной альтернативе действующей политической и социальной модели. Для этого на политической сцене должны появиться новые лидеры, способные сформулировать такую модель и завоевать поддержку в элитах и в обществе. Очевидно, что для ее практической реализации потребуется много других факторов. В частности, такое «альтернативное предложение» вряд ли может быть воспринято как реалистичное, если оно не будет поддержано со стороны «коллективного Запада». (Это отдельная проблема, так как ни в ЕС, ни в США пока совсем не наблюдается стратегического видения возможной модели отношений с Россией после Путина, а политика скорее является «реактивной» — когда Запад предпринимает те или иные меры в ответ на действия Кремля.)
Тем не менее все эти факторы не будут иметь значения в отсутствие самого набора идей, которые могли бы консолидировать общество и предложить элитам вменяемую альтернативу сегодняшней модели. Трудность с выработкой подобных идей заключается в том, что они не могут ограничиваться общими словами про демократию и рыночную экономику. Дважды войти в одну и ту же реку не получится: надежды на лучшую жизнь в условиях демократии и рынка, характерные для конца 1980-х годов, стали важным фактором, смягчившим прохождение кризиса 1990-х. Но это имело свою цену. Тогдашние надежды опирались на наивные представления большинства российских граждан об экономических и политических процессах в современном обществе, что дало возможность для манипулирования со стороны элит и стало предпосылкой серьезных разочарований в обществе, которые во многом обусловили регресс демократических институтов в России в следующие два десятилетия.
В этом смысле сегодняшняя ситуация в России принципиально отличается от Испании середины 1970-х с ее «пактом Монклоа» или Польши конца 1980-х с круглым столом между правительством Ярузельского и оппозицией. В обоих случаях элиты и общество видели альтернативную модель, успешно реализованную в соседних странах Западной Европы. Сейчас — на фоне собственного опыта 1990-х, а также многочисленных реальных проблем, с которыми сталкиваются развитые страны, — ни у элит, ни у общества перед глазами такой модели нет. Именно поэтому для формулирования убедительной альтернативы существующему режиму потребуются не общие слова и лозунги, а внятные ответы на многочисленные конкретные вопросы об устройстве общественно-политической и экономической жизни «после Путина», формирующие у элит и активных представителей других социальных групп понимание того, как это все будет работать и какое место они займут в этой новой модели.
-
Отношения России с миром после войны: в чем именно и как будет проявляться суверенитет страны в новой модели? Как будут строиться отношения с ближайшими соседями и отношения с «коллективным Западом» и с Китаем?
-
Новая политическая модель: ее обязательными элементами должны быть политические и гражданские свободы и сменяемость власти, в то же время неочевидна реалистичность перехода к парламентской республике, о которой сейчас говорят многие деятели оппозиции; и неизбежно здесь будет возникать вопрос о люстрации — допуске или недопуске к участию в политической жизни наиболее активных деятелей путинского режима.
-
Отношения центра и регионов: обсуждение степени децентрализации и федерализации — при наличии серьезных аргументов «за» у Владимира Пастухова и обоснованных сомнений у Дмитрия Некрасова.
-
Экономическая модель: определение роли и места госкомпаний и госкорпораций, статуса и судьбы активов олигархического бизнеса, условий «входа» на российские рынки для новых игроков, включая иностранцев, равно как и обсуждение будущего западных санкций и условий для их отмены (что очевидно пересекается с вопросом про «отношения с миром»).
-
Социальная модель: как и за счет чего будут финансироваться те социальные обязательства, которые сейчас раздает режим и отказаться от которых не сможет позволить себе ни одно правительство? Каковы механизмы сокращения социального неравенства и реализации принципов социальной справедливости?
-
Роль и место армии и силовых структур: социальный статус и гарантии для тех, кто добросовестно обеспечивает безопасность, при наличии понятных механизмов контроля со стороны общества над аппаратом применения насилия.
Очевидно, что этот список может быть существенно расширен и дополнен. Но помимо обсуждения конкретных тем, не менее важным будет ответ на вопрос, кто может быть гарантом тех прав, которыми в новой модели будут наделены разные группы «стейкхолдеров»? Существенный момент здесь в том, что в случае успешного перехода к новой общественно-политической и экономической модели (который пока совершенно не гарантирован) Россия в логике подходов Дугласа Норта, Джона Уоллиса и Барри Вайнгаста все равно будет относиться к «порядкам ограниченного доступа» — с иным, более широким, чем сейчас, составом правящей коалиции, но с неизбежной опорой на источники ренты, удерживающие ключевые группы в элитах от применения насилия. Это означает, что уже на стадии конструирования новой модели необходимо иметь четкое представление о возможных источниках ренты, обеспечивающих ее относительную стабильность.
Отдельный большой вопрос: кто может сегодня запустить процесс выработки новой общественно-политической и экономической модели для России после Путина, приемлемой для основных групп в элите и обществе? На фоне растущих репрессий какие-либо публичные действия в этом направлении со стороны элит сейчас крайне маловероятны. Инициативы такого рода со стороны оппозиции пока выглядят нереалистичными — так как в большинстве случаев идеи и предложения, исходящие от оппозиции, не отвечают на практические вопросы о будущем со стороны представителей тех социальных групп внутри России, которым не нужна война и с участием которых могла бы быть сформирована широкая антипутинская коалиция.
Вместе с тем очевидно, что обеспечить реальные позитивные изменения в России можно только при наличии консенсуса между думающей частью общества и адекватными группами в элитах. Достижение такого консенсуса — это результат политического процесса, который едва ли может начаться при Путине. Но отсутствие базовых идей, которые могли бы стать основой такого процесса и движения к такому консенсусу в момент ухода Путина, чревато скатыванием страны в хаос. В этих условиях выработка новой общественно-политической и экономической модели для России после Путина, скорее, может начинаться как экспертно-аналитический процесс с непубличным включением в него представителей разных элитных и профессиональных групп и с обсуждением поставленных выше вопросов. Поиск адекватных ответов на все эти вопросы возможен только в диалоге между теми, кто озабочен будущим России и при этом способен слышать и уважать мнение других.
Читайте также
 В ожидании окна: имеют ли смысл проекты реформ для постпутинской России сегодня?
Повальное увлечение проектами переустройства постпутинской России не может заменить усилий по структурированию большой политической коалиции, но в то же время обращено к обсуждению ключевых развилок возможной программы оппозиции и того общего «представления о будущем», которое должно лечь в ее основу.
Где-то между Мавританией и Португалией: что говорят сравнительные данные о возможных траекториях путинского режима
В ожидании окна: имеют ли смысл проекты реформ для постпутинской России сегодня?
Повальное увлечение проектами переустройства постпутинской России не может заменить усилий по структурированию большой политической коалиции, но в то же время обращено к обсуждению ключевых развилок возможной программы оппозиции и того общего «представления о будущем», которое должно лечь в ее основу.
Где-то между Мавританией и Португалией: что говорят сравнительные данные о возможных траекториях путинского режима
 Рассуждая о будущем путинского режима, эксперты обычно представляют его как механическую проекцию наблюдаемых в настоящем тенденций. Однако реальная история нередко разворачивается по траекториям, которые выглядят при таком подходе непредсказуемыми. Сравнительные данные позволяют отчасти преодолеть инерцию мышления. Что говорят они о последствиях войн для политических режимов и перспективах разных типов персоналистских автократий?
Рассуждая о будущем путинского режима, эксперты обычно представляют его как механическую проекцию наблюдаемых в настоящем тенденций. Однако реальная история нередко разворачивается по траекториям, которые выглядят при таком подходе непредсказуемыми. Сравнительные данные позволяют отчасти преодолеть инерцию мышления. Что говорят они о последствиях войн для политических режимов и перспективах разных типов персоналистских автократий?
.jpg) Два взгляда в будущее: новый мировой беспорядок или петля национализма?
Ослабление глобального Запада, проявившее себя в неспособности противостоять путинской агрессии, и возвращение Трампа формируют основной мотив сегодняшних прогнозов будущего человечества на перспективу десяти лет. Однако поворот к опасной и нестабильной многополярности не обязательно влечет за собой войну всех против всех.
Два взгляда в будущее: новый мировой беспорядок или петля национализма?
Ослабление глобального Запада, проявившее себя в неспособности противостоять путинской агрессии, и возвращение Трампа формируют основной мотив сегодняшних прогнозов будущего человечества на перспективу десяти лет. Однако поворот к опасной и нестабильной многополярности не обязательно влечет за собой войну всех против всех.