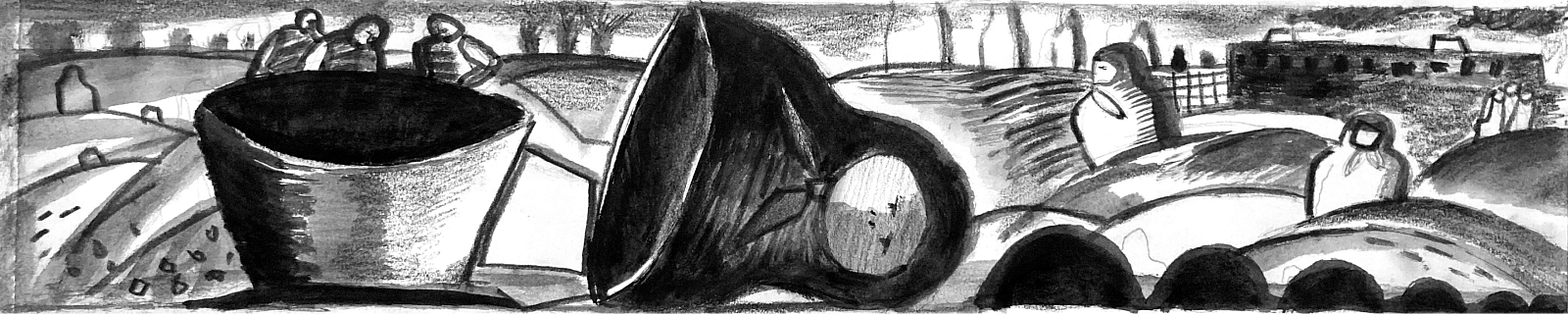
Предыстория убийства: Навальный и политика протеста в России
Алексей Навальный был центральной фигурой противостояния российского общества путинскому авторитаризму, заряжавшей героикой личного бесстрашия десятки тысяч людей и создавший этику нового сопротивления. Более десяти лет он оставался творцом и координатором политики протеста в России. Данная статья не является попыткой политической биографии Алексея Навального, но призвана объяснить его роль в российской истории последних пятнадцати лет, природу его популярности, а также причины покушения на него в 2020 году, его последующего возвращения в Россию и связанную с этим драму.
В то же время политическая биография Алексея Навального ни в коем случае не является лишь производным его героической личности. Феномен Навального складывается прежде всего из той совокупности ожиданий и устремлений, которые он сфокусировал в себе и добровольным заложником и символом которых он стал. Эти ожидания в свою очередь опираются на социальный капитал части постсоветских поколений российских граждан. Тот капитал, который развязанная Путиным против Украины война имеет своей целью подорвать и уничтожить, превратив Россию в заповедник консерватизма и милитаристского мракобесия.
История политики протеста — центральной фигурой и идеологом которой в России стал Алексей Навальный — знает немало примеров противостояний, продолжавшихся десятилетиями, то затухая (после волны репрессий), то разгораясь вновь. Достаточно вспомнить противостояние рабочего и студенческого движения коммунистическому режиму в Польше (1970–1990) или в чем-то даже более актуальное для современного российского контекста противостояние демократического студенчества и военно-персоналистского режима в Южной Корее с начала 1970-х годов до начала 1990-х, завершившееся мирным транзитом и становлением достаточно устойчивой демократии. Впрочем, эти исторические аналогии являются, как все аналогии, не инструментом прогноза, но лишь указанием на спектр возможных сценариев. И в наиболее оптимистическом из этих сценариев мы когда-нибудь скажем, что первую половину этого пути противостояния российское общество прошло во многом благодаря Навальному.
Политика протеста: из ЖЖ на площадь
Политическая звезда Алексея Навального взошла в ходе массовых протестов конца 2011 — 2012 года, открывших новый период российской политической истории после эпохи аполитичности 2000-х. Навальный оставался центральной политической фигурой этого периода, продолжавшегося вплоть до полномасштабного вторжения в Украину.
Знаменитый историк и социолог Чарльз Тилли и его соавторы предложили рассматривать протесты и протестные движения как особую сферу политики — contentious politics, что можно перевести как «протестная политика», «политика оспаривания» или «политика противостояния» (→ Чарльз Тилли et al.: Dynamics of Contention; Contentious politics; встречающийся перевод термина как «состязательная политика» представляется неудачным). Сюда относятся различного рода демонстрации, петиционные кампании, забастовки и прочие способы коллективного политического действия, которые не являются частью традиционной партийно-электоральной политики и посредством которых граждане напрямую заявляют о своих интересах и требованиях. В демократиях они становятся способом давления на политиков и политические партии, чтобы скорректировать их повестки, в автократиях — альтернативой партийно-электоральной политике, которая там отсутствует или носит фиктивный характер.
В каждом эпизоде протестной политики присутствуют три стороны: группы граждан, оспаривающие те или иные правила и порядки, правительство, защищающее статус-кво, и публика, которую те и другие стремятся склонить на свою сторону. У каждой стороны есть свой репертуар возможностей, и в целом «политика оспаривания» представляет собой серию взаимодействий сторон, которые приводят к тем или иным исходам. В конечном итоге задача этого противостояния — изменить представления «публики», ее взгляд на проблему — и таким образом изменить баланс сил. Протестная политика в норме бывает ненасильственной, но может включать и насильственные действия. Источником насилия, впрочем, могут выступать как «несогласные», так и правительство, которое стремится представить «публике» (третьей стороне) свои насильственные действия против несогласных как законные и легитимные.
Протестная политика стала важным фактором в последние годы существования Советского Союза и в первые годы новой России (до конца 1993-го). Затем надолго ушла на периферию политического процесса и начала медленно возрождаться в конце 2000-х, по мере укрепления путинской автократии. Но вновь по-настоящему вышла на арену и стала важнейшим фактором политического процесса в 2010-е годы.
Согласно весьма распространенному мнению, эпизоды протестной мобилизации в России 2010-х не создавали критической угрозы режиму. Но это суждение является принципиально неточным. В большом числе случаев успешные революции развивались по схожему сценарию: режим выглядит для большинства наблюдателей и даже для самих протестующих вполне стабильным, а протесты в своей начальной фазе — незначительными и немногочисленными. Однако затем власти теряют контроль над происходящим, а массовость протестов нарастает как снежный ком. Такая динамика наблюдалась в некоторых антикоммунистических революциях конца 1980-х годов, во многих «цветных» революциях 2000–2010-х и, наконец, в событиях «арабской весны» в 2010–2011 годах. Поэтому изначальные предположения о стабильности режима и потенциале протеста на деле не являются гарантией успешного для властей исхода. Именно с высоты такого понимания подходили к протестам российские власти (внимательно изучавшие опыт «цветных» революций и «арабской весны»), а потому эпизоды протестной мобилизации оказывали на самом деле значительное влияние на логику эволюции самого режима, реагировавшего на них как на значимую угрозу.
Российское массовое протестное движение 2010-х годов включало в себя несколько волн и по большей части было связано с фигурой Навального. Первая такая волна стала реакцией на фальсификации результатов думских выборов 2011 года. На пиках эта волна собирала протестные митинги и шествия с числом участников порядка 120–150 тыс. человек по всей России и представляла собой серию акций, проходивших с 5 декабря 2011 года по сентябрь 2012 года, не менее десяти из которых имели численность более 15 тыс. человек (→ Кирилл Рогов, Абы Шукюров: Протесты 2021 года; оценки численности упомянутых здесь и ниже акций основываются на анализе сообщений СМИ и мониторинговых проектов, сделанном в этом обзоре). Именно эта волна протестов вывела Алексея Навального в лидеры российской оппозиции. На политическую сцену он явился как политик принципиально нового поколения, снискавший первоначальную популярность своим блогом в «Живом журнале». Тогда же впервые Навальный выступил инициатором стратегии тактического голосования (не за того, кто тебе нравится, а за соперников того, кто тебе не нравится). Сначала он выдвинул лозунг «Голосуй за любую партию, кроме „Единой России“», а затем «разогрел» возмущение голосовавших многочисленными свидетельствами фальсификаций результатов их тактического выбора.
Протесты 2011–2012 годов стали несостоявшейся «цветной» революцией в России. И сменились ответным наступлением режима. Причем главным инструментом этого наступления стало даже не столько усиление репрессивного давления со стороны властей в 2012–2013 годах, сколько встречная провластная мобилизация, связанная с «возвращением» Крыма. Это событие позволило Кремлю мобилизовать «обывательский нейтралитет» и восстановить впечатление стоящего за ним абсолютного большинства поддержки, подорванное, казалось бы, протестами 2011–2012 годов.
Время Навального: эпоха «школоты» и «выход за Садовое кольцо»
Новым этапом в истории протестного движения стала уже собственно «навальновская» волна 2017–2019 годов. Эта волна отличалась от предыдущей и по характеру своей повестки, и по методам рекрутирования протестного ядра, и по социально-демографическому составу протестующих. И, наконец — но совсем не в последнюю очередь, — тем, что практически все ее акции вызывали жесткое противодействие полиции.
Первая акция «Он вам не Димон» состоялась 26 марта 2017 года и была приурочена к выходу фильма-расследования Навального под тем же названием, обвинившего в коррупции тогдашнего премьер-министра и бывшего президента Дмитрия Медведева. Фильм обрел вирусную популярность, за несколько суток набрав 5 млн просмотров на YouTube и еще 1,4 млн в сети «Одноклассники»; по данным «Левада-центра», к началу апреля фильм смотрели 7% опрошенных. Навальный призвал сторонников выйти на акции протеста с требованием расследовать изложенные в фильме факты, в результате акции прошли почти в сотне городов и собрали около 50 тыс. участников.
Само по себе это было совершенно новое явление — протестная акция по следам коррупционного расследования, облеченного в форму публицистического фильма, который был размещен на YouTube. И эта форма предопределила кардинальное изменение аудитории и протестного ядра кампании Навального. Следующая акция «Димоновой» серии состоялась 12 июня и собрала еще больше людей — от 50 до 98 тыс. в 154 городах, по данным «Медузы» и ОВД-Инфо. Опрос 125 участников акции в Москве показал, что более половины из них были моложе 25 лет и более 60% не участвовали в протестных акциях до марта 2017 года (→ Кирилл Рогов: Дело Навального).
Эти акции стали своего рода прелюдией «президентской кампании» Навального, целью которой было добиться его регистрации кандидатом на президентских выборах в качестве соперника Путина. Таким образом, Навальный опробовал новую стратегию «электоральных протестов», в фокусе которых были не фальсификации итогов выборов, как раньше, а борьба за допуск на них оппозиционного кандидата. Этот тематический поворот проявил себя в сюжете следующего массового протеста, приуроченного к 65-летию Путина (7 октября 2017 года), основным требованием которого была регистрация Навального в качестве кандидата в президенты. Акция собрала от 10 до 15 тыс. человек.
Действительно, в зрелых авторитарных режимах значимые альтернативные политики и партии, как правило, до выборов не допускаются и у оппозиции нет возможности призвать избирателей «защитить свой выбор». В этой ситуации возможными сценариями становятся либо тактическое протестное голосование, как в 2011 году, либо организация протестной кампании вокруг требования допустить оппозиционных политиков к выборам. Такую тактику Навальный опробовал в своей «президентской кампании», такая же стратегия была использована оппозицией на выборах в Мосгордуму летом 2019 года.
Вообще, традиционными триггерами протестной мобилизации в полуавторитарных и авторитарных странах являются: 1) электоральные манипуляции властей («революция роз» в Грузии в 2003 году, «оранжевая революция» в Украине в 2004-м, протесты в России в 2011–2012-м), 2) «символическая несправедливость» и 3) чрезмерное насилие правоохранителей по отношению к протестующим и представителям оппозиции. В качестве «символической несправедливости» могут выступать вскрывшиеся факты коррупции (протесты по мотивам фильма «Он вам не Димон»), «частный эпизод» несправедливости, вызывающий волну сочувствия и возмущения (случай торговца Мохаммеда Буазизи, давший старт революции в Тунисе и «арабской весне»), насильственное вторжение в «частную» среду обитания граждан (уничтожение городских скверов в Стамбуле в 2013 году и в Екатеринбурге в 2019-м) либо «обман ожиданий / отмена обещаний» (протесты в Украине в связи с отказом Януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС в 2013 году; армянская революция 2018 года, поводом к которой стал отказ президента Сержа Саргсяна от обещания не занимать премьерское кресло после конституционной реформы). Однако серьезным вызовом для режима является не одиночный протест сам по себе, а реакция на него общества. Развилка состоит в том, запускает ли первый выход недовольных на улицы и оказанное им противодействие полиции протестную волну, в ходе которой протестующие продолжают настаивать на своих требованиях, а их численность возрастает?
События могут развиваться по трем основным сценариям. Первый: число людей, вышедших на улицы по одному из перечисленных поводов, оказывается гораздо бóльшим, чем ожидалось. Это производит мобилизационный эффект: многие люди, латентно сочувствующие целям протеста, но считающие себя меньшинством, переоценивают собственные представления о числе своих сторонников и выходят из «зоны комфорта», присоединяясь к протесту. По такому сценарию отчасти развивались события в России в декабре 2011 года после неожиданно многолюдной акции 5 декабря на Чистых прудах. Если людей оказалось не больше, чем ожидалось, то с высокой вероятностью это ведет к затуханию протеста. Однако даже если людей в первой итерации вышло немного (третий сценарий), но они не уходят с улиц и в результате испытывают на себе жестокость полиции, картины этой жестокости могут вызвать волну сочувствия, под влиянием которой люди выходят из «зоны комфорта» и присоединяются к протесту, численность которого может нарастать как снежный ком. Иными словами, третья причина протестов — возмущение жестокостью полиции и требование освободить заключенных — становится триггером вторичной мобилизации в поддержку протеста, который мог иметь сначала достаточно локальный повод и незначительный размер. Такой сценарий со многими отличиями и вариациями наблюдался в Стамбуле в ходе протестов в защиту парка Гези, в Киеве в 2013–2014 годах и в Беларуси в 2020-м.
После отказа в регистрации на президентских выборах Навальный провел акцию «Забастовка избирателей» (28 января 2018 года), которая была не слишком многочисленной (около 10 тыс. участников), а затем, уже после оглашения ЦИКом официальных результатов президентских выборов, но до инаугурации Путина, — акцию «Он нам не царь» (5 мая 2018 года), еще менее многочисленную. Таким образом, мобилизационный потенциал новой проблематики протеста (недопуск оппозиции на выборы, требование альтернативности выборов и сменяемости власти) оказался в целом гораздо ниже, чем эффект антикоррупционного «Недимона». В то же время эти протесты, проходившие в условиях жесткого преследования полиции, продемонстрировали гораздо более высокую резистентность: ядро протестующих использовало «тактику воды», перемещаясь по городу, и, преследуемое полицией, не уходило с улиц до позднего вечера. Однако, несмотря на более высокую резистентность, эти акции не запускали вторичную волну протестов, связанную с возмущением населения действиями полиции.
Возможность такого сценария отчасти обозначилась летом 2019 года, когда поводом для массовых протестов стал отказ в регистрации оппозиционных политиков на выборах в Московскую городскую думу. Жесткое уличное противостояние 27 июля и 3 августа продемонстрировало, что полиция не может справиться с протестующими, если их достаточно много и они перемещаются по центру города. Многочисленные видео, демонстрировавшие жестокость полиции, стали причиной волны сочувствия к протестующим — это показывали социологические опросы и динамика активности в соцсетях. Осознав это, власти даже пошли на частичные уступки, допустив проведение одной «разрешенной» акции (10 августа), в разгар отпускного сезона собравшей, по оценкам «Белого счетчика», около 60 тыс. человек, и не противодействовали проведению еще одной «неразрешенной» акции (31 августа). Власти стремились «выпустить пар» накануне начала рабочего и учебного года.
Таким образом, во второй половине 2010-х годов Навальный приступил к организации нового политического движения, используя при этом несколько ключевых и новых в российской политике на тот момент инструментов. Во-первых, это яркие публицистические антикоррупционные расследования, обращенные своей стилистикой преимущественно к молодежи, которые радиировали его известность далеко за пределы традиционных слоев «демократического сообщества». Во-вторых, организация неразрешенных протестных акций, ядром которых становится совсем молодой актив («школота Навального»), стремящийся не разбегаться перед лицом полицейского давления и тем вынуждающий полицию на бóльшую жестокость. И в-третьих, развертывание в ходе своей самостийной «предвыборной» кампании сети региональных штабов, преимущественно в региональных столицах. Последнее не только создавало основу протопартии Навального, но и способствовало кристаллизации прослойки и культуры политического поведения «продвинутых горожан» за пределами российских столиц и, в конечном итоге, формированию «навальновского поколения» в российской политике.
В то же время следует отметить, что протестные кампании «навальновской» волны 2017–2019 годов не достигали размаха протестного движения 2011–2012-го, проходили в условиях нарастающего репрессивного давления, но при этом не запускали вторичную волну мобилизации. До некоторой степени эти акции и сам Навальный оставались на этом этапе для России в целом явлением некоторого молодежного гетто, что определяло его отрезанность не только от старших возрастов, но и от внимания элит.
Пробить броню экрана: блогер против телевизора
Новая протестная культура и формирование «навальновского» политического поколения стали результатом политической интуиции и креативности Навального, позволивших ему опереться на технические возможности новой эпохи. «Навальновская» протестная волна разворачивалась на фоне быстро меняющейся структуры медиапотребления и социальных практик. По сути дела, она совпала и в значительной мере «питалась» массовым вовлечением российских граждан, прежде всего молодежи, в мир социальных сетей. Как видно на рисунке 1, доля телевизора в структуре источников информации населения сократилась с 42% в 2013–2015 годах до 35% в 2020–2021-м, а доля всех традиционных источников информации (телевидение + радио, газеты и журналы) — с 70 до 45%. В то же время доля интернет-источников (сайты + соцсети) выросла с 18 до 45%, причем доля социальных сетей — с 7 до 25%. В то же время кремлевская политика информационного контроля, сформированная в предыдущую эпоху, была сфокусирована преимущественно на традиционных медиа. В результате почти уничтоженное в традиционных медиа пространство неподцензурности быстро восстанавливалось в новых интернет-изданиях и социальных сетях.
Рисунок 1. Структура источников информации в России, 2013–2021, % от числа опрошенных
При этом структура медиапотребления стала сильно различаться по возрастным группам. В 2021 году традиционные медиа (телевидение, радио, газеты и журналы) уже составляли менее трети в структуре источников информации молодых возрастов (до 40 лет) и две трети — у старших возрастов (55+). А соцсети являлись самым значимым источником информации для молодых (34–42%), в полтора–два раза превосходящим по своему весу телевизор. Еще в 2015 году возрастная дифференциация в структуре источников информации не носила столь драматического характера: традиционные СМИ составляли 75% потребления старших возрастов и 50% — младших, в 2021-м разница стала почти троекратной — 65 и 23% соответственно.
Рисунок 2. Структура источников информации по возрастным группам, 2021, % от числа опрошенных
В результате уровень вовлеченности тех или иных групп в социальные сети стал определяющим фактором их «картины реальности», задавая все более заметное различие политических ориентаций младших (до 40 лет) и старших (после 55 лет) контингентов (→ Кирилл Рогов: Люди соцсетей и дети телевизора). В итоге молодежь, которая, по оценкам экспертов, в начале 2010-х годов была настроена даже более пропутински, чем средние возраста, к концу 2010-х становится наиболее антипутинским отрядом российских граждан. Общий уровень доверия к Путину как политику упал с 2015 по 2021 год в два раза, при этом в младших возрастах (18–39 лет) падение оказалось почти троекратным, в то время как в старших доверие сократилось лишь в полтора раза.
Рисунок 3. Доверие к Владимиру Путину в 2015 и 2020–2021 годах, % от числа опрошенных
Этот эффект проявил себя и в отношении к протестам. В ходе протестов «школоты» в 2017 году 40% опрошенных считали жесткие действия полиции против протестующих вполне оправданными и лишь 30% придерживались противоположной точки зрения; причем эта картина почти не различалась в разных возрастных группах (таблица 1). Поэтому, несмотря на резистентность (готовность к сопротивлению) нового протеста, эти акции не могли стать триггером вторичной волны сочувствия к протестующим. В 2019 году ситуация изменилась: 30% оправдывали полицию против 40% возмущенных ее действиями; при этом в старшей возрастной группе изменений по сравнению с 2017 годом не наблюдалось, а в более молодых — и чем моложе, тем сильнее — сочувствие к протестующим резко возросло. И это также непосредственно связано с различиями в структуре источников информации, из которых опрошенные узнавали об акциях: в традиционных медиа доминировал официозный нарратив, в соцсетях — фото и видео, изобличавшие жестокость полиции.
Таблица 1. Отношение к действиям полиции в ходе неразрешенных акций 2017–2019 годов, % от числа опрошенных
При этом ключевым событием второй половины 2010-х годов становятся стремительный рост мобильного широкополосного интернета и — соответственно — российского сегмента YouTube (→ Сергей Гуриев: Эра 3G). Именно YouTube в значительной мере вступает в конкуренцию с телевизором, похищая его ключевое преимущество «живой картинки», которое позволяет резко расширить доступность альтернативного общественно-политического контента.
Эти обстоятельства дают в руки Навальному новый инструмент, в очередной раз меняющий его статус в российской политике. Он становится первым российским политиком — YouTube-блогером. Мощный рывок в этом качестве Навальный совершает еще весной 2017 года, как раз после выхода «Димона»: в результате к началу лета у его YouTube-канала уже есть миллион подписчиков (см. рисунок 4). К лету 2018 года у Навального 2 млн подписчиков, в конце 2019-го — 3 млн, а в начале лета 2020-го — более 3,5 млн. Эта интернет-аудитория вполне сравнима с аудиторией новостной программы центрального федерального телеканала. Разумеется, совокупный охват телевидения, время просмотров и прочие параметры несопоставимы, но наличие аудитории в несколько миллионов человек и расширение инфраструктуры вещания за счет второго канала «Навальный LIVE» превращают блогера Навального в настоящее федеральное медиа. Благодаря чему в этой фазе ему удается преодолеть границы «молодежного гетто» 2017–2018 годов.
Рисунок 4. Динамика прироста подписчиков YouTube-каналов «Алексей Навальный» и «Навальный LIVE», 2017–2021, тыс. человек
Ключевую роль в приросте аудитории играли фильмы-расследования (см. таблицу 2), которые собирали аудиторию от 5 до 15 млн человек и «подсаживали» на Навального новые и новые контингенты. В то же время в качестве YouTube-блогера Навальный культивирует новый политический стиль, который захватывает современную аудиторию (теперь уже до 40 лет) необычным соединением пафоса и ироничности, в том числе самоиронии, преодолевающим культуру аполитичности и цинизма, сформировавшуюся в 2000-е годы, и в то же время чуждым трагической пафосности диссидентской культуры.
Таблица 2. Самые популярные фильмы и ролики Навального, млн просмотров
Данные социологических опросов также показывают, что Навальный окончательно становится в этот момент политиком общероссийского масштаба (рисунок 5). Летом 2020 года о нем и его деятельности знали между 70 и 80% опрошенных, а одобряли эту деятельность около 20% (среди молодых возрастов — 25%). Уровень узнаваемости выше 50% из лидеров российской оппозиции имел только Борис Немцов, однако в значительной степени эта узнаваемость была наследием того периода, когда, занимая ключевые позиции в правительстве и политическом истеблишменте, Немцов часто появлялся в телевизоре. Навальный же создал свой общероссийский политический бренд, не имея к телевизору никакого доступа, что само по себе демонстрировало радикальные изменения на информационном и политическом поле.
Рисунок 5. Динамика отношения к Навальному, 2013–2021, % от числа опрошенных
Выход из «гетто» и новую политическую роль Навального особенно подчеркивают некоторые детали его «карты популярности». Так, в сентябре 2020 года даже среди одобряющих Путина об одобрении Навального заявляли 14% (в октябре 2019-го таких было 4%). Примечательно также, что за два года, с 2018-го по 2020-й, не только в два раза выросла доля положительных оценок, но также на 20% сократилась доля тех, кто относился к Навальному отрицательно. Казалось бы, этот политический капитал — уровень одобрения около 20% — не выглядит в моменте критическим для режима, но подрывает фундаментальный принцип персоналистского авторитаризма — «заговор отсутствия» любой политической альтернативы. Граждане не должны иметь возможности сравнивать лидера-автократа с кем бы то ни было, только в этом случае его недостатки можно выдавать за преимущества. Появление же альтернативы создает угрозу внезапной перегруппировки симпатий в ситуациях кризисов. И падение отрицательных рейтингов, равно как и проникновение Навального в среду лояльности Путина можно рассматривать как явные указания на возможность такого разворота событий. В широком смысле именно эта новая ситуация и новый статус Навального становятся причиной первого покушения.
Первая попытка убийства и «революция регионов»
При том что фактические обстоятельства покушения на Навального в августе 2020 года хорошо известны благодаря международному расследованию (→ The Insider: Лаборатория), менее понятными остаются его непосредственные поводы. Вполне логично связать покушение с событиями в Беларуси, продемонстрировавшими потенциал протестной мобилизации даже в очень консолидированных авторитарных режимах. Протесты начались сразу после объявления ЦИКом Беларуси победы Лукашенко 9 августа. И в течение следующей недели становится ясно, что у режима не хватает сил, чтобы остановить их. Напротив, протестное ралли разворачивается по сценарию снежного кома: жестокость силовиков в отношении первых и не слишком многочисленных групп протестующих ведет к разрастанию протеста. 16 августа проходит акция, численность которой в Минске оценивается в 200–400 тыс. человек, а по всей Беларуси — в 1 млн человек. Лукашенко готовится к обороне своей резиденции, что казалось немыслимым сценарием еще несколько недель назад. И как раз на вечер 16 августа, согласно данным расследования Bellingcat, приходится первый всплеск переговоров отравителей Навального в Новосибирске.
Однако, как теперь известно, такая картина развития событий является неполной. Дело в том, что первая попытка покушения на Навального была, очевидно, предпринята еще в начале июля 2020 года, более чем за месяц до событий в Беларуси. И эта дата позволяет нам разглядеть еще один важный контекст покушения. Юлия Навальная почувствовала себя необъяснимо плохо 6 июля, а команда отравителей выдвинулась в Калининград 2 и 3 июля, то есть через два дня после объявления итогов голосования о поправках к Конституции. Стоит обратить внимание на еще один факт: практически параллельно, 9 июля, в Хабаровске был арестован губернатор Сергей Фургал. Связь между этими событиями, возможно, является более глубокой, чем может казаться на первый взгляд.
1 июля, перед отлетом в Калининград, Навальный записал и выпустил на своем канале ролик «Итоги „голосования“. Что делать дальше», в котором призвал своих сторонников сосредоточиться на проекте «Умного голосования» и подробно описал свой план: на региональных выборах в сентябре 2020 года следует голосовать против кандидатов «Единой России», это приведет к утрате «Единой Россией» монопольного контроля над региональными парламентами, а значит, и над избирательными комиссиями. В качестве доказательства эффективности таких действий Навальный привел пример Хабаровского края: после победы Фургала на губернаторских выборах, лишившись рычага фальсификаций, «Единая Россия» потерпела полное поражение на выборах в региональный парламент и даже на голосовании по поправкам фальсификации почти отсутствовали. В случае фальсификации результатов самого «Умного голосования» на региональных выборах Навальный призвал своих сторонников выйти на улицы и не уходить с них.
Многие элементы этого плана выглядели достаточно реалистично. Во-первых, на выборы в региональные парламенты ходит мало реальных избирателей, поэтому даже ограниченная мобилизация граждан в рамках протестного голосования вполне может создать нужный перевес в результатах. Это продемонстрировали и региональные выборы 2018 года, где Кремль и «Единая Россия» потерпели поражение сразу в нескольких регионах (→ Фонд «Либеральная миссия»: Стресс-тест на пол-России), и выборы в Мосгордуму в 2019-м. Во-вторых, противостояние с демонстрантами сразу в нескольких регионах может представлять гораздо бóльшую техническую и политическую проблему, чем противостояние с митингующими в Москве. Местные силы полиции могут оказаться не так надежны в этой ситуации, а переброска «помощи из Москвы» способна вызвать антимосковскую мобилизацию и усилить сочувствие к протестующим на местах, то есть запустить ту самую вторичную волну мобилизации, усиленную региональным патриотизмом и идиосинкразией к Москве. Ситуацию усугубляла неопределенность экономических последствий весеннего локдауна и продолжающейся пандемии. В этом контексте арест Фургала должен был стать однозначным сигналом региональным элитам, что Кремль не потерпит «хабаровской аномалии» — губернатора, пришедшего к власти вопреки воле Москвы и опирающегося на поддержку «снизу». В конспирологическом сознании Путина Фургал и Навальный, очевидно, уже выглядели как два лидера «революции регионов», взаимодополняющие друг друга различающимися протестными аудиториями. И план расправы с ними, скорее всего, был принят единовременно, сразу после выхода ролика.
Видео с изложением Навальным своего плана набрало более 13 млн просмотров. Более того, на протяжении июля–августа Навальный готовит и выпускает еще целый ряд материалов-расследований, посвященных российским регионам, в которых осенью должны проходить выборы. При этом пять из них набирают более 5 млн просмотров: два посвящены уже протестующему после ареста Фургала Хабаровску, по одному — Новосибирску, Томску и Казани (см. № 9–13 в таблице 2). Для расследований регионального масштаба это невероятные результаты.
Стоит обратить внимание еще на одно обстоятельство. Если посмотреть на всю «фильмографию» Навального, то становится ясно, что ролики, посвященные общеполитической и электоральной тематике, набирают обычно гораздо меньше просмотров, чем коррупционные расследования. «Хиты» из таблицы 2 — практически сплошь расследования (исключением является именно ролик от 1 июля 2020 года с изложением плана «осеннего регионального наступления»). То же самое верно, как показано выше, и в отношении потенциала протестной мобилизации: электоральная тематика давала гораздо меньшие масштабы протеста, чем коррупционная (расследование «Недимон»). В своей кампании лета 2020 года Навальный намечает прочную связку между коррупцией и проектом «Умного голосования»: в центре каждого фильма — коррупционное расследование с региональным фокусом, заканчивающееся призывом к протестному голосованию в сентябре и к выходу на улицы по его итогам. Даже фильм, посвященный противостоянию Фургала и Кремля, имеет своей важнейшей сюжетной аркой «секретные терема» полпреда президента в крае Юрия Трутнева. В целом масштаб информационной кампании Навального перед региональными выборами 2020 года выглядит совершенно беспрецедентным — прежде всего в силу накопленного им информационного ресурса на YouTube.
Сентябрьский план Навального, по всей видимости, показался в Кремле опасным еще в начале июля (попытка отравления в Калининграде). А события в Беларуси должны были лишь подогреть эти опасения. Сценарий «арабской весны» являл собой, как известно, политический аваланш, когда протесты, начавшиеся в одной стране региона, представляющего собой общее культурно-языковое пространство, стремительно перекидывались на соседние. Но непосредственным триггером отравления стали не события в Беларуси, а, по всей видимости, осознание нового масштаба информационного и политического влияния Навального и опасности его плана «региональной революции» на фоне тех локальных поражений, которые Кремль нес в некоторых регионах на осенних выборах 2018 и 2019 годов и которые обнажили реалистичность региональной протестной консолидации.
Возвращение: стать приманкой для тирана
Так или иначе, второе покушение 20 августа, хотя и сорвало региональную кампанию Навального (протестное голосование особенно не повлияло на исход региональных выборов и не запустило региональные политические кризисы), но запустило кризис, развивавшийся по совсем другой траектории. Уже 2 сентября Германия официально заявила, что Навальный был отравлен боевым ядом семейства «Новичок»; 3 сентября Евросоюз выступил с жестким заявлением, осудившим попытку убийства и возложившим на Кремль ответственность за него, а Навальный стал героем мировой прессы и признанным Западом лидером российской оппозиции.
Тем временем еще в сентябре его YouTube-канал перешагнул отметку в 4 млн подписчиков, а после публикации расследования, установившего личности отравителей, и разговора Навального по телефону с одним из них, число подписчиков подскочило еще на 600 тыс. и приблизилось к 5 млн человек. Сам же фильм-разоблачение, рассказывающий об отравлении, и разговор Навального с Кудрявцевым набрали в совокупности более 50 млн просмотров. В этой ситуации Навальный принял решение возвращаться в Россию, имея на руках фильм о «дворце Путина».
Практически неизбежный арест по прибытии и выход расследования о «главной коррупционной сделке» должны были обеспечить двойной триггер протестов — «символическая несправедливость» (коррупционная сага о дворце) и «несправедливые репрессии» (покушение и предполагаемый арест по возвращении). Иными словами, Навальный сделал из самого себя приманку для Путина, заглотив которую тот должен был столкнуться с главным разоблачением — выходом фильма про дворец. Навальный был задержан 17 января при прохождении пограничного контроля в Шереметьево, а 19 января вышел фильм «Дворец для Путина», который к 23 января набрал около 60 млн просмотров — беспрецедентную аудиторию для неразвлекательного контента в российском YouTube. На 28 января, когда фильм набрал 100 млн просмотров, число уникальных зрителей составляло 33 млн, из которых более 20 млн приходилось на Россию. Согласно опросу «Левада-центра», проведенному 29 января — 2 февраля 2021 года, о просмотре фильма заявили 26% опрошенных, что в проекции на взрослое население страны дает 28 млн человек.
Исходя из этого, можно достаточно обоснованно предполагать в качестве нижней оценки, что к 23 января, первому большому протесту в защиту Навального, российская аудитория фильма составила более 10 млн человек, а к 30 января — не менее 20 млн. Помимо этого подготовка протестов 23 января характеризовалась беспрецедентной активностью в социальных сетях и даже шагнула в «детскую» сеть TikTok, наполнившуюся вирусными клипами в поддержку Навального и протестов.
Несмотря на это, акция 23 января собрала не так много людей, как можно было ожидать. По нашим оценкам, общее число протестующих находилось в диапазоне 100–200 тыс. человек или чуть больше. С одной стороны, это сделало акцию одной из крупнейших в России в XXI веке и сопоставимой с топовыми акциями 2011–2012 годов, а также уникальной по географическому охвату и по численности протестующих за пределами столиц. При этом, в отличие от акций 2011–2012 годов, она находилась под полным запретом и сопровождалась массированной кампанией угроз со стороны властей. В то же время протесты 23 января не вышли за пределы того коридора массовости, который сформировался еще в ходе протестной волны 2011–2012 годов: рядовые крупные митинги собирают 10–30 тыс. участников, а пиковые — 100–200 тыс.
Число протестующих, вышедших 23 января, составляло примерно 2% от аудитории фильма про дворец и примерно 4% от числа подписчиков канала Навального. Нельзя сказать, что рост аудитории Навального-блогера не конвертировался в поддержку Навального-политика, но коэффициенты этой конвертации выглядят достаточно сдержанно: в январе 2021 года у Навального в шесть-семь раз больше подписчиков, чем весной 2017 года, в то время как масштаб протестов превосходит масштаб акции «Недимон» в три-четыре раза. В январе 2018 года, когда у Навального 1,5 млн подписчиков, его деятельность одобряют 9% опрошенных, а в январе 2021-го при 6,5 млн подписчиков — 20%. Эти цифры демонстрируют нелинейность конвертации информационного охвата в политическую поддержку.
По данным январского опроса «Левада-центра», знали о содержании фильма хотя бы приблизительно 68%, 37% от всех опрошенных сочли это содержание достоверным или правдоподобным (половина знавших о фильме), около 12% опрошенных заявили, что их мнение о Путине ухудшилось. При том, что со значительной вероятностью эти цифры занижены (респонденты могли скрывать свое отношение к столь чувствительному вопросу), очевидно, что между знанием о фильме (и даже доверием к его содержанию) и переживанием сильной политической эмоции, которая может стать стимулом выхода на неразрешенный митинг, существует значительный разрыв. Тема коррупции вызывает колоссальный интерес аудитории, как мы знаем из всей истории Навального-блогера, но не переворачивает «картину мира» респондентов и не дает значительного мобилизационного эффекта на фоне возросших рисков участия в протестах.
Эту роль мог бы сыграть второй триггер протеста — «несправедливые репрессии» (отравление и арест Навального по возвращении). И здесь приходится констатировать, что за пределами традиционных групп поддержки оппозиции россияне в большинстве своем не поверили в отравление. Как видно из таблицы 3, доля знающих об отравлении оставалась стабильной с сентября по декабрь 2020 года (76–78%). Это само по себе достаточно странно на фоне новостей октября (когда международная Организация по запрещению химического оружия подтвердила заключение немецких врачей об отравлении Навального «Новичком», а Евросоюз ввел санкции против России) и декабрьского сенсационного расследования журналистского консорциума (когда были вычислены непосредственные исполнители). В сентябре (согласно опросам) лишь 25% доверяли информации, что Навальный был отравлен. И меньшинство из них — 10% от всех опрошенных — возлагали вину за отравление на власти или фигурантов расследований Навального, в то время как около 15%, хотя и верили информации об отравлении, не могли определиться с главной версией его мотивов. В октябре определенность повысилась, а мнения несколько консолидировались и поляризовались. Практически три равных группы — примерно по 20% опрошенных — считали случившееся на борту самолета 1) «инсценировкой», 2) «провокацией Запада» и 3) местью властей или фигурантов расследований Навального. Еще одна группа (16%) не могла определиться между этими версиями.
Таблица 3. Отношение к отравлению Навального, 2022, % от числа опрошенных
В конце декабря неопределенность в интерпретации произошедшего вновь возрастает: растут доли считающих произошедшее инсценировкой и тех, кто не может определиться с основной версией, а вот доли определившихся (возлагающих ответственность на российские власти и на Запад) немного снижаются. Это происходит непосредственно после разоблачения истории отравления и телефонного разговора Навального с сотрудником ФСБ Кудрявцевым и несмотря на гигантскую аудиторию, которую собрали два посвященных этому видео (№ 15–16 в таблице 2). Можно предположить, что обывателю показалось, что в расследовании все слишком просто и прозрачно, что противоречило его, пронизанной конспирологическими паттернами, картине мира («Хотели бы убить — убили бы»). В результате, атмосфера конспирологической неопределенности вокруг фигуры самого Навального, в значительной мере подогреваемая Кремлем, не развеялась и была перенесена на историю отравления, заблокировав ее эмоциональное восприятие.
Итак, в истории Навального-блогера и Навального-политика мы видим, с одной стороны, пример того, как новые медиа, и прежде всего видеохостинги, позволяют преодолеть информационную изоляцию и создать общероссийский политический бренд без участия телевизора. С другой стороны — пример того, как этого индивидуального ресурса оказывается недостаточно для того, чтобы опрокинуть «картину мира», сформированную авторитарным информационным мейнстримом. Парадоксальным образом, чудесное спасение Навального начинает работать против него, превращаясь в «обратную» конспирологию, которая гасит протестную эмоцию и позволяет аудитории фильмов Навального не выходить из «зоны комфорта».
Эффект Ланцелота: почему россияне не поверили в отравление
Безусловно, в условиях зрелой автократии важнейшим фактором в принятии решения об участии в протестах является страх полицейского насилия и последующих преследований. Решение о выходе на улицу — это внутренняя борьба между страхом и градусом «возмущения» теми событиями, которые являются поводом протеста («битва между добром и нейтралитетом», по блистательному определению самого Навального). Однако, как было сказано выше, важнейшим сюжетом протестной политики является не только эта борьба и ее исход, но также отношение к ней «публики». Иными словами, критическое значение для судьбы протестной волны имеет отношение к протестам извне — тех, кто в них не участвует. Это отношение определяет в большой степени, может ли режим применить к протестующим насилие и как оно будет воспринято.
С июля 2020 по апрель 2021 года полстеры имели редкую возможность оценить отношение россиян к участникам сразу трех протестных волн — хабаровской в защиту Фургала, белорусской и «навальновской». В отношении протестов в Хабаровске количество сочувствующих протестующим в трех волнах всероссийского опроса почти втрое превышало число тех, кто осуждал их. Однако в отношении белорусских протестов и протестов в поддержку Навального ситуация была обратной: о своем отрицательном отношении к протестующим заявляли вдвое больше опрошенных, чем выражавших им поддержку (см. рисунок 6). Вопрос — почему?
(Как уже приходилось неоднократно писать, социологическая выборка в условиях автократии и растущего риска репрессий может иметь значимое смещение: люди, критически относящиеся к режиму, но ощущающие эту позицию как маргинальную или рискованную, могут чаще отказываться от участия в опросе. Возможно, в некотором идеальном замере сторонников Навального оказалось бы несколько больше; вместе с тем имеющаяся выборка остается вполне репрезентативным срезом общества, отражает палитру мнений и их динамику.)
Рисунок 6. Отношение к участникам протеста в Хабаровске, Беларуси и России, январь–апрель 2021 года, % от числа опрошенных
Как видно на рисунке 7, структура поддержки протестующих в разрезе социально-демографических групп, групп с разными источниками информации и политическими установками (уровнем лояльности) для всех трех протестных волн очень похожа. Серые и красные столбцы (хабаровские и «навальновские» протесты) почти синхронно повторяют колебания в уровне поддержки, но в случае хабаровских протестов они в среднем на 26 процентных пунктов выше. Наиболее существенные различия в разрезе групп (то есть случаи, когда разница отклоняется от средних 26 пунктов) суммированы в таблице 4.
Рисунок 7. Поддержка протестующих в Хабаровске, Беларуси и в поддержку Навального в социально-демографических группах, группах с разными источниками информации и политическими установками, % от числа опрошенных
Таблица 4. Наиболее значимые различия в поддержке участников хабаровских и «навальновских» протестов в разных группах
Незначимыми оказываются различия в источниках информации, то есть различие источников ведет к синхронному росту или снижению поддержки в обоих случаях. С другой стороны, неожиданно сильным выглядит падение поддержки «навальновских» протестов в возрастной группе 25–39 лет (обычно она близка к самой молодой группе, 18–24 года, потому что имеет схожую структуру источников информации). Но главная разница заметна в группах, различающихся своими политическими установками, то есть уровнем лояльности режиму. Среди лояльных групп (одобряющие Путина и считающие, что дела в стране идут в правильном направлении) участники протестов в поддержку Навального пользуются минимальной поддержкой (6–7%), а вот протестующих в Хабаровске поддерживает, как минимум, каждый четвертый из «лоялистов» (26–27%). В то же время среди нелояльных групп (не одобряющие Путина и считающие, что события ведут страну в тупик) повестку «навальновских» митингов поддерживают около 40%, а «хабаровскую повестку» — около 70%. Иными словами, «повестка Навального» захватывает не всех недовольных, но лишь 40% наиболее радикальной их части, а с другой стороны, у не менее четверти лояльных респондентов повестка хабаровских протестов все же вызывает сочувствие. Хабаровский протест в глазах респондентов выглядит более «законным», а протест Навального — слишком радикальным.
Исследователи, анализировавшие механизмы эскалации протестов в связи с попыткой сноса парка Гези в Стамбуле в 2013 году, пришли к следующему пониманию механизмов их нарастания. Сначала защищать парк вышло совсем немного активистов, однако жестокость полиции, применившей к ним силу, возмутила людей, принадлежащих к различным партийно-идеологическим группам. В их глазах повод протеста выглядел совершенно «невинным», то есть легитимным, а полицейское насилие неоправданным и нелегитимным; в результате, разные группы недовольных оказались солидарны в поддержке кучки протестующих и вышли на улицы, чего, скорее всего, не произошло бы, если бы первоначальная повестка в большей степени отражала «партийные» повестки одной из этих групп (→ Defne Över, Basak Taraktaş: When Does Repression Trigger Mass Protest?)
Протесты и направленное против них полицейское насилие вызывают сочувствие обывателя (медианного избирателя), если их повод, с его точки зрения, является «легитимным», невинным в рамках принятых правил игры, то есть они выглядят как жертва. В этом случае полицейское насилие воспринимается как нападение на признанные границы автономии общества, как ущемление его права на «законное» выражение недовольства. Такой сдвиг поводов к насилию выглядит для обывателя «нелегитимным» и понуждает его к действенному сочувствию. Однако в «деле Навального» ситуация для обывателя (медианного избирателя) выглядела иначе. Она выглядела как сознательная радикализация со стороны Навального, вернувшегося, несмотря на неминуемый арест, «в пасть дракона», да еще с фильмом о Путине. Такая радикализация выглядела бы, вероятно, в глазах обывателя более легитимной, если бы он «поверил» в отравление и возлагал ответственность за него на власти.
Как представляется, негативное отношение «публики» к «навальновским» и белорусским протестам и сочувственное отношение к хабаровским, более умеренным в своих повестках («верните нашего губернатора»), связано с неприятием рисков прямой конфронтации с режимом. Этот мотив играл ключевую роль и в «блокировании» шокирующей версии отравления, доказательства который были представлены международным консорциумом, и в переадресации ответственности за «радикализацию» ситуации самому Навальному («Нечего было возвращаться»), который оказался в положении шварцевского Ланцелота, осуждаемого жителями города за намерение освободить их от дракона.
Таким образом, можно сказать, что в то время, как протесты в поддержку Навального одобряли нелояльные контингенты, потенциально готовые к конфронтации с режимом, хабаровские протесты одобряли также нелояльные контингенты, не готовые к прямой конфронтации, и часть лояльных контингентов, считающих, однако, выступления хабаровчан в защиту популярного губернатора вполне легитимными.
Если максимально упростить, то можно сказать так: на фоне рисков прямой конфронтации с режимом, обывателю было проще не поверить в ту степень злодейства Путина, на которую указывало расследование и которая принуждала бы обывателя к выходу на улицу в защиту «добра», и приписать обострение конфликта радикализму самого Навального, отправившегося в пасть к дракону. Нейтралитет победил.
Как представляется, этот анализ имеет непосредственное отношение к событиям последних дней и к вопросу о том, как будет сегодня воспринято российской публикой убийство Навального в тюрьме «Полярный волк». Как правило, после политических убийств Кремль вбрасывает в публичное пространство несколько версий случившегося, подчеркивая при этом отсутствие у Путина острой «необходимости» убивать оппонента. Разноголосица версий и конспирологический карго-культ («Все не так, как кажется») оставляют для обывателя удобную дверь неверия, позволяя остаться в зоне комфорта. В то же время по сравнению с 2020 годом образ Путина в сознании обывателя проделал значительную эволюцию. Даже на фоне пролонгации своих полномочий путем поправок к Конституции в 2020 году он оставался в зоне цивильной автократии и системной (относительно легитимной, в глазах обывателя) коррупции. Сегодня этот образ сместился в зону опасности и коварства, а смерть Навального оказывается в резонансе со смертью Пригожина, в отношении которой власти даже не потрудились представить обывателю правдоподобную версию.
Так или иначе, Алексей Навальный был ключевой фигурой противостояния в российской политике и российском обществе, продолжавшегося больше десяти лет. Это противостояние включало в себя две протестные волны 2011–2012 и 2018–2021 годов, совпадавшие с периодами падения доверия к Владимиру Путину и его режиму (рисунок 9). Эти волны во многом определили эволюцию путинского режима на протяжении этого десятилетия. При этом ответом на каждую волну были не только ужесточение режима и рост его репрессивности, но и организация встречной мобилизации под знаменами государственного национализма, триггером которой всякий раз — в 2014 и в 2022 годах — становилось нападение на Украину. Обе протестные волны потерпели поражение, а Алексей Навальный убит в заключении.
Рисунок 9. Рейтинг доверия Владимиру Путину и динамика политического противостояния 2010-х годов, % от числа опрошенных
Однако феномен Навального складывается не только из его незаурядных качеств политического лидера, но прежде всего из той совокупности ожиданий и устремлений, которые он сфокусировал в себе и добровольным заложником которых он стал. Эти ожидания в свою очередь опираются на социальный капитал части постсоветских поколений российских граждан. Развязанная Путиным война против Украины имеет своей целью подорвать и уничтожить этот капитал.
История политики протеста — центральной фигурой и идеологом которой в России стал Алексей Навальный — знает немало примеров противостояний, продолжавшихся в разных странах десятилетиями, то затухая (после волны репрессий), то разгораясь вновь. Достаточно вспомнить противостояние рабочего и студенческого движения коммунистическому режиму в Польше (1970–1990) или в чем-то даже более актуальное для современного российского контекста противостояние демократического студенчества и военно-персоналистского режима в Южной Корее с начала 1970-х до начала 1990-х годов, завершившееся мирным транзитом и становлением достаточно устойчивого демократического режима. Впрочем, эти исторические аналогии являются, как все аналогии, не инструментом прогноза, но лишь указанием на спектр возможных сценариев.
Читайте также
.jpg) Актуальный Навальный. Жизнь после смерти
Главное наследие Навального — это политический оптимизм. Не тот шутливый оптимизм, который разошелся в меме про «прекрасную Россию будущего», но оптимизм высокой пробы, который состоит в убеждении, что твои политические идеалы настолько значимы, что их не может поколебать то обстоятельство, что ты не знаешь, когда этим идеалам суждено осуществиться.
Спонтанные святилища: смерть Навального и мемориальный протест
Актуальный Навальный. Жизнь после смерти
Главное наследие Навального — это политический оптимизм. Не тот шутливый оптимизм, который разошелся в меме про «прекрасную Россию будущего», но оптимизм высокой пробы, который состоит в убеждении, что твои политические идеалы настолько значимы, что их не может поколебать то обстоятельство, что ты не знаешь, когда этим идеалам суждено осуществиться.
Спонтанные святилища: смерть Навального и мемориальный протест
 За минувшие две недели по России прокатилась волна создания спонтанных мемориалов памяти Навального вокруг памятников жертвам политических репрессий, символически нагруженных мест, во дворах и подъездах жилых домов и даже в пространстве онлайн-карт. За прошедшее время известно о не менее 500 таких «цветочных» мемориалов в 232 городах и поселках России, их список продолжает расти. Что они значат, и какая традиция стоит за ними?
За минувшие две недели по России прокатилась волна создания спонтанных мемориалов памяти Навального вокруг памятников жертвам политических репрессий, символически нагруженных мест, во дворах и подъездах жилых домов и даже в пространстве онлайн-карт. За прошедшее время известно о не менее 500 таких «цветочных» мемориалов в 232 городах и поселках России, их список продолжает расти. Что они значат, и какая традиция стоит за ними?
.jpg) Убийственный нейтралитет: смерть Навального как политическое событие в отражении опросов общественного мнения
Несмотря на замалчивание в подцензурных СМИ, смерть Навального стала для российского общества шоком. Нет сомнения, что это событие и его интерпретация станут предметом острой политической борьбы, которая еще впереди. Что говорят первые опросы общественного мнения о реакции населения на гибель главного врага Путина?
Убийственный нейтралитет: смерть Навального как политическое событие в отражении опросов общественного мнения
Несмотря на замалчивание в подцензурных СМИ, смерть Навального стала для российского общества шоком. Нет сомнения, что это событие и его интерпретация станут предметом острой политической борьбы, которая еще впереди. Что говорят первые опросы общественного мнения о реакции населения на гибель главного врага Путина?
