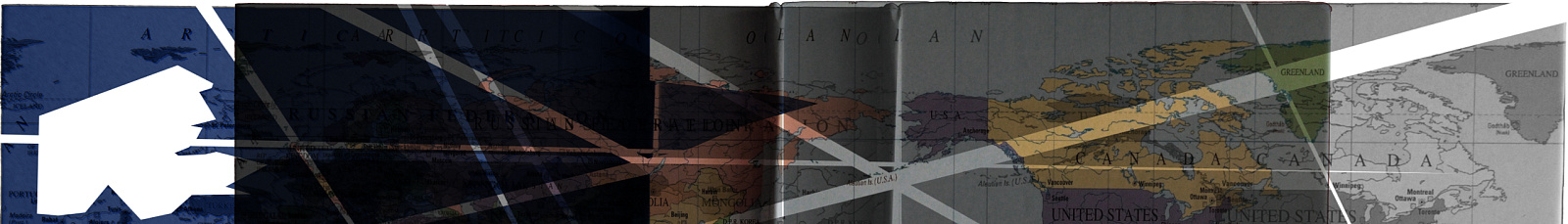
Радар неизвестности: представления о глобальном порядке претерпевают крутые изменения в мировом общественном мнении, но еще не обрели окончательных очертаний
Неспособность западной коалиции дать отпор российской агрессии в Украине обозначила кризис международного порядка, существовавшего на протяжении предыдущих десятилетий, и привела к существенным сдвигам в понимании геополитических развилок мироустройства во многих странах.
В социологических опросах основы евроатлантической идеологии выглядят существенно ослабленными в том числе в самих странах «коллективного Запада», хотя вовсе не разрушенными полностью. Недоверие к блоковому мышлению, индифферентизм, концентрация на национальном суверенитете и национальных интересах проникают из стран глобального Юга в обитель западного геополитического мышления — Европу.
Эти тенденции и общее для большинства стран стремление к уменьшению внешних зависимостей, впрочем, не только ослабляют «единство Запада», но и ставят под сомнение надежды Пекина и Москвы на формирование антизападного блока в мировой политике.
Европа остается «великой державой Шредингера». В представлении многих народов она может играть роль самостоятельного глобального игрока. Однако в самой Европе все еще сильны позиции тех, кто не желает отказываться от бенефитов эпохи «мирного дивиденда», и обостряются противоречия между панъевропейским и национальным пониманием суверенитета.
Два этих обстоятельства препятствуют выработке общей стратегии Европы в новой конфигурации мировых сил, которая, впрочем, выглядит еще далеко не сложившейся, а находящейся в состоянии транзита.
Угрозы и лагеря
Война в Украине и неспособность западной коалиции дать действенный отпор агрессии Москвы стали катализатором принципиальных изменений в восприятии международного порядка и геополитического баланса. И это обстоятельство в большей степени, чем хаотичные инициативы Дональда Трампа, лежит в основе сегодняшних рассуждений о конце «старого порядка» и дискуссий о том, что придет ему на смену — двухполярный, многополярный или бесполярный мир.
Однако насколько эти политические и экспертные дискуссии действительно отражают сдвиги в массовых представлениях и запросах в разных странах? Отчасти заглянуть на эту территорию позволяет масштабное социологическое исследование «Радар безопасности», проведенное немецким Фондом Фридриха Эберта в 14 странах и обнародованное на Мюнхенской конференции в конце прошлой недели.
Опрос показывает, что мир становится более опасным, а настроения — более тревожными. Но прежде всего рост беспокойства о ситуации в мире характерен для европейских стран, и в особенности — для больших и благополучных. Во Франции и Германии 69% опрошенных ожидают ухудшения ситуации с безопасностью на планете. В Италии, Польше, Великобритании и Швеции подобное беспокойство испытывают 52–61%. А за границами Европы — в Грузии, Казахстане, Украине и России — его проявляют только от одной пятой до трети населения (19–34%). При этом, однако, в этих странах респонденты считают более вероятной угрозу третьей мировой войны.
В опросную выборку вошли 14 стран — шесть государств ЕС (Германия, Франция, Италия, Латвия, Польша, Швеция), Великобритания и США, а также неевропейские Казахстан, Россия, Украина, Сербия, Турция и Грузия. В 12 из 14 стран респонденты включили в число трех наиболее беспокоящих их вопросов инфляцию, экономические кризисы, а также войны и конфликты. На первое место военные конфликты вышли в четырех странах: Украине, Грузии, Латвии и Германии. Предсказуемо, бо́льшая часть европейских стран видит основную внешнюю угрозу в России. Прежде всего это ощущают ее непосредственные соседи (в Грузии, Польше, Латвии — 51–55%) и, разумеется, Украина (74%). За ними следуют Швеция (38%), Германия (30%) и Великобритания (30%). В Италии же, например, напротив, беспокойство по поводу российской угрозы на минимальном уровне (8%). В свою очередь в Китае угрозу видит незначительная доля европейских респондентов (1–7%) и в среднем меньшая, чем доля тех, кто видит угрозу в США. В то время как в самой Америке Россию страной-угрозой считают 17%, а Китай — 25%.
Большинство респондентов высказывается за увеличение военных расходов в большинстве стран опроса, но с разной степенью уверенности. Максимальная консолидация предсказуемо наблюдается в Украине, Грузии и Польше (страны, ощущающие прямую угрозу от России, — 75–77%), следующая группа состоит из Швеции, России и Турции (60–67%). В прочих европейских странах столь твердого большинства нет: в Германии, Франции, Великобритании это 52–56%, в Латвии — 49%, в Италии — 26%. Европа в значительной мере не готова расстаться с эпохой «мирного дивиденда». Наибольшую готовность жертвовать другими статьями расходов (в том числе социальных) ради военных трат проявляют респонденты в Украине (63%), России (44%) и Польше (38%); в США, Германии и Турции к этому готовы 30%.
В целом страны опроса делятся на несколько «геополитических лагерей». Первый — это те, кто ощущает себя в зоне непосредственной угрозы, исходящей от России (Польша, Латвия, Грузия, Украина). Второй — это страны с повышенной «экстравертной» ответственностью — Великобритания, Германия, отчасти Франция и Швеция. Здесь люди в большей степени чувствуют себя ответственными за судьбу Европы (и мира в целом). В Швеции высокий уровень «экстравертной» ответственности сфокусирован на проблемах балтийского региона, прямой угрозой для которого воспринимается Россия. Третья группа — это прочие страны Европы, представленные в выборке Италией, — более дистанцированные в отношении как конфликта в Украине, так и геополитических вызовов. Наконец, четвертая — это страны «неевропейского зрения» (Казахстан, Россия, Турция и Сербия; по некоторым вопросам здесь же оказывается и Грузия). Наконец, отдельно стоят США, в чем-то сближаясь с европейским видением, а в чем-то отдаляясь от него.
Новый (бес)порядок и новый индифферентизм
Общие тренды в изменении представлений о мировом политическом порядке в опросах Фонда Эберта достаточно близки тем, которые фиксировали авторы Мюнхенского доклада по безопасности (→ Re: Russia: Мюнхенский несговор). В том, что эпоха доминирования США закончилась, более всего убеждены в странах «неевропейского зрения» — России, Сербии, Турции и Казахстане (51–62%); впрочем, в Германии, Франции и Великобритании это мнение также разделяют около половины опрошенных (46–47%). Что интересно, в самих США с ним согласны 43% отвечавших. А больше всего надежд на США в их роли «мирового полицейского» продолжают возлагать жители наиболее уязвимых в силу своей близости к России стран — Польши, Грузии, Украины.
Относительно того, что приходит на смену «старому порядку», существует широкая полифония мнений. Она фиксирует не сложившуюся картину, а скорее тренды и отдельные характеристики нового (бес)порядка. Наиболее популярным описанием наступающего времени оказался вариант «эпоха войн и конфликтов». 70–79% респондентов считают так в европейских странах (Франция, Италия, Швеция, Великобритания) и в США, а также в Сербии, Турции и Украине. Гораздо менее популярно суждение, что мир вступает в эпоху новой холодной войны между США и Китаем: его разделяют многие вне Европы — в Турции, Сербии, Украине и России (60–68%), — но в европейских странах так думают в среднем 50% опрошенных. Зато представление, что в новую эпоху страны будут руководствоваться принципом «Моя страна прежде всего», особенно популярно в Турции (83%), а также во Франции, Грузии, Сербии и Великобритании (71–74%); в Италии, Швеции, Украине и США с этим также согласны 60–68%.
Вообще, изоляционистский тезис «Моя страна должна сосредоточиться на собственном благополучии и избегать вовлеченности в международные дела» наименее популярен из всех 14 стран в Швеции, но и здесь его разделяют 50% опрошенных. В Польше, Франции, Италии, Великобритании, Германии и России таких 55–57%, в США — 65%. В неевропейских Сербии, Турции и Грузии этот эгоистичный прагматизм импонирует 70–86% опрошенных. Таким образом, поддержка этого и предыдущего («Моя страна прежде всего») принципов, хотя и в разной степени, характерна для всех геополитических лагерей. Раньше считалось, что подобный «неценностный», прагматичный подход свойствен прежде всего развивающимся странам глобального Юга, от которого «коллективный Запад» отличается именно большей приверженностью ценностным установкам. Здесь мы видим, как это различие размывается, хотя и остается порой значимым в отношении конкретных вопросов геополитической повестки.
Еще более поразительно, что в странах «старого Запада», которые принято обвинять в навязывании своих порядков и ценностей остальному миру, наиболее популярен тезис «Моя страна должна быть привержена нашим ценностям дома, но не должна пытаться продвигать их за рубежом». Его поддержали 65% немцев и 44–49% опрошенных в Швеции, Великобритании, США и Франции. В то время как противоположного мнения о желательности продвижения своих ценностей вовне придерживаются здесь 35–39% (в Германии — 25%). И наоборот, в Польше, Сербии, Италии, Украине, Турции большинство (62–53%) поддерживает продвижение своих ценностей в мире — против 26–38% настаивающих на их исключительно «домашней» значимости.
Пожалуй, наиболее ярко противоречивый комплекс нового индифферентизма проявляет себя в том, что во всех странах опроса большинство от 51 до 78% высказалось за то, чтобы вступать ради продвижения мира и безопасности в кооперацию даже со странами, не разделяющими ценности твоей страны, и еще более консолидированное большинство от 60 до 82% высказывается за то, чтобы снижать свою зависимость от тех стран, которые эти ценности не разделяют. Похоже, что здесь проявляет себя стремление равно дистанцироваться от двух типов зависимости — прямой зависимости от «доминантных держав» и, одновременно, от «блоковой зависимости», — отражающее возросшую во всех геополитических лагерях и типах стран ценность «суверенитета» в широком понимании этого слова.
Уменьшить свою зависимость от геополитически чуждой страны, в данном случае — от России, даже за счет экономических потерь и снижения уровня жизни в наибольшей степени готовы жители Польши, Швеции, Великобритании, Украины и США. Здесь такую решимость выражают около трех четвертей респондентов (71–85%), в Германии, Франции, Италии и Латвии — около двух третей (60–67%). Даже в Грузии и Турции за это высказались 58%. Идиосинкразия к зависимости от Китая значительно ниже: больше 60% уверенных в необходимости снижения зависимости обнаруживается во Франции, Швеции, Великобритании и США, простое большинство — в Германии, Италии, Турции, Украине и Грузии. Присутствие в обоих списках Грузии и Турции весьма показательно. Хотя эти страны получают дивиденды от сохранения хороших отношений с Россией, неприятие отношений «зависимости» остается для них важным ориентиром собственного позиционирования.
«Великая держава Шредингера»
Как это отмечают исследователи на материале других опросов, европейские страны, и в особенности — опорные, «старые» страны ЕС, в наибольшей степени погружены в пессимизм и своего рода «рефлективное безволие». Довольно естественно, например, что наиболее пессимистичны в отношении способности защитить себя перед лицом российского нападения жители небольшой Латвии (только 8% верят в свои способности противостоять России). Однако у столпов европейской силы — Франции и Германии — цифры отличаются незначительно: там верят в свою способность защищаться, соответственно, 9 и 16%, что ниже даже уровня крошечной Грузии (17%). И наоборот, верят в свою армию в противостоянии с Москвой в США — 70%, в Турции — 59% и в Украине — 53%.
Положение ЕС в современном мире выглядит парадоксальным. «ЕС — великая держава Шредингера» — озаглавили авторы раздел доклада, посвященный геополитической роли Европы. Экономический вес и объединенные военные ресурсы государств-членов делают ЕС объективно великой державой, и его часто так и рассматривают со стороны, пишут авторы «Радара». В глобальной картине мира ЕС воспринимается как союз единомышленников, потенциально выступающий на мировой арене наравне с США, Россией или Китаем. Однако изнутри картина выглядит совсем иначе. Сами жители ЕС, и в наибольшей степени — его ключевых стран, не только не склонны считать Европу великой державой, но испытывают повышенный скептицизм в отношении ЕС и его места в мире.
Так, например, на вопрос, может ли ЕС защитить себя без поддержки США, почти во всех странах союза положительно отвечали лишь около 30%. В то же время в странах за границами ЕС (Казахстан, Сербия, Великобритания и США) такого мнения придерживаются 41–45%, а в России и Турции — две трети. В пяти странах ЕС, в которых проводился опрос, лишь 32% поддержали утверждение «Европейский союз становится мировой державой, занимая отличную от Китая и США позицию». Исключение составила Швеция, где это мнение разделяют 46%. Среди неевропейских стран его в среднем поддержали 37%. Идея создания общей и сильной европейской армии лишь едва собирает большинство внутри ЕС: ее поддерживают 56% во Франции, 54% в Польше, 50% в Латвии, 49% в Германии, 45% в Швеции и 42% в Италии.
Отчасти такая ситуация может объясняться тем, что общий сегодня для многих стран и народов фокус на «суверенитете» создает внутреннее противоречие в конструкции Евросоюза и поляризацию внутри отдельных стран-членов между «еврооптимистами» и теми, для кого «национальный суверенитет» выглядит прибежищем и инструментом отгораживания от разбалансированности мира. Как показывает опрос Фонда Эберта, мнение «Политика ЕС оказывается регулярно в конфликте с интересами моей страны» разделяют 77% в России и 65–66% в Турции и Сербии, что естественно — здесь сказываются различия геополитических перспектив. Однако и внутри ЕС его разделяют 51% в Польше, 47% во Франции, 44% в Италии, 43% в Германии. Здесь, видимо, проявляют себя сосуществование и конкуренция разных пониманий суверенитета внутри единой Европы.
В целом можно сказать, что основы евроатлантической идеологии выглядят в данных опросах существенно ослабленными, хотя вовсе не разрушенными полностью. Недоверие к блоковому мышлению, индифферентизм, концентрация на национальном суверенитете и национальных интересах проникают из стран глобального Юга в обитель западного геополитического мышления — Европу. Эти тенденции, впрочем, не только ослабляют «единство Запада», но и ставят под сомнение надежды Пекина и Москвы на формирование антизападного блока в мировой политике. Опрос Фонда Эберта в целом созвучен выводам недавнего исследования Европейского совета по международным отношениям (ECFR), где утверждается, что от старой однополярности мир движется не столько к пресловутой многополярности, сколько к специфической модели «мира à la carte» (→ Эш, Крастев, Леонард: Мир à la carte). И что крайне важно отметить, эти тенденции мирового общественного мнения, разумеется, не являются реакцией на эксцентричные действия команды Трампа — скорее следует предполагать, что сами эти действия стали реакцией на происходящие изменения, в том числе — на все более широкую убежденность в закате эпохи американского доминирования и отказ от «блокового» мышления.