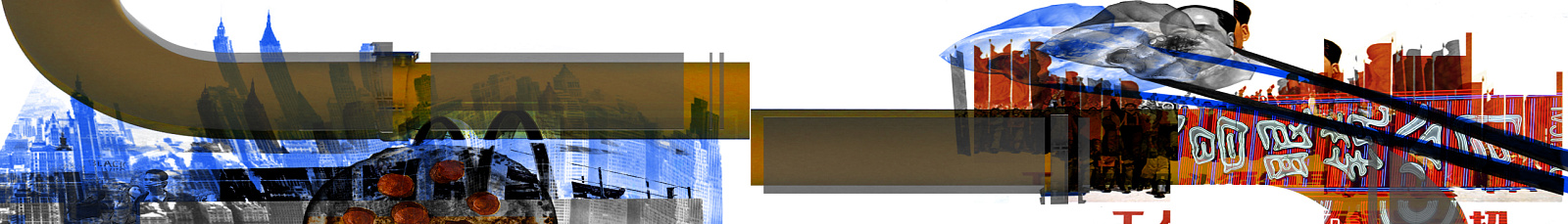
Вызов Трампа и дилемма Европы: успеет ли Старый Свет подготовиться к новой войне?
После инаугурации Трамп потребует от европейских союзников увеличения расходов на оборону минимум до 2,5% ВВП и, возможно, сократит количество американских войск, размещенных в Европе. Это вынудит Старый Свет резко пересматривать свои бюджетные и военные стратегии.
Однако дело не в Трампе. Относительный успех Путина, опробовавшего в Украине новую модель военного конфликта — конвенциональной войны с ядерной ракетой «за пазухой», — резко повышает шансы повторения такого сценария уже на территории одной из европейских стран.
Единственный способ предотвратить такой конфликт или справиться с ним — это значительное, а лучше кратное превосходство в конвенциональных вооружениях и средствах защиты. Однако до такого положения дел Европе далеко, как до Луны: сегодняшний европейский ВПК и логика финансирования оборонных расходов сформированы идеологией эпохи «мирного дивиденда», когда вероятность масштабного конфликта в Европе выглядела минимальной.
Европе необходимо кардинально перестроить и объединить свою военную промышленность и нарастить расходы на оборону до требуемого Трампом уровня. Эту цель поддерживает и новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Этой стратегии будут противодействовать консерватизм европейской бюджетной политики и национальный оборонный протекционизм, а также европейские сторонники «мира любой ценой» в Украине, которые пропагандируют такой мир как альтернативу болезненному решению о перераспределении средств в пользу оборонных нужд. Однако промедление в реализации плана резко повышает риски новой войны в Европе.
Вызов Трампа: Европа и гибридная конвенциональная война
Европа и НАТО, в принципе, не готовы сегодня к тому типу конфликта, который успешно навязал им Кремль в Украине. А изоляционистская доктрина Дональд Трампа и вовсе грозит поставить Европу в беззащитное положение.
Трамп обещает продолжить реорганизацию НАТО, начатую во время первого президентского срока. Его цель — добиться от европейских союзников увеличения расходов на оборону. В 2024 году общие расходы ЕС на нее достигнут 2% ВВП, как это предусмотрено правилами альянса (хотя ряд стран все еще не доберется до этого уровня). Однако Трамп, предсказывает Джеймс Ставридис, бывший адмирал ВМС США и экс-главнокомандующий силами НАТО, не удовлетворится этим, и одним из первых его требований после инаугурации станет увеличение оборонных расходов Европы (а также Канады) как минимум до 2,5%, а возможно, и до 3% ВВП. Сами США тратят на оборону около 3,5% ВВП (но часть аналитиков и ястребов-республиканцев считают, что в сегодняшних обстоятельствах этого недостаточно).
В стратегическом «Проекте 2025», подготовленном для Трампа Heritage Foundation, содержится и более радикальное предложение: возложить на Европу ответственность за «подавляющее большинство обычных сил, необходимых для сдерживания России», в то время как США сосредоточатся на вопросах ядерного сдерживания. Сегодня на европейском континенте дислоцированы 90 тыс. американских военных, и весьма вероятно, что Трамп потребует по меньшей мере сократить это число. Кроме того, он, видимо, постарается переложить на ЕС основное бремя поддержки Украины. Так называемый мирный план Трампа, впрочем, все еще остающийся фантомом, предполагает, что в украинской демилитаризованной зоне будут размещены европейские войска, а не контингент НАТО, а Вашингтон не будет финансировать миссию (→ Re: Russia: Торговец или мессия).
В то же время, несмотря на все потери, понесенные в Украине, вооруженные силы России выйдут из войны «более сильными, чем раньше», утверждает в недавнем интервью Der Spiegel главком вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи. Европа будет иметь дело с потенциальным противником, обладающим реальными навыками ведения современной конвенциональной войны, массой войск и ясными намерениями вступить в конфликт, если для этого представится благоприятная возможность, говорит генерал. В случае завершения или заморозки войны с Украиной наращивание военной мощи России ускорится: потери техники на поле боя прекратятся, а расходы на выпуск новой останутся как минимум на том же уровне (→ Re: Russia: Бюджет непобеды). Согласно оценкам, приведенным в докладе Кильского института мировой экономики, нынешние темпы производства в России достаточно высоки, чтобы всего за полгода–год вооружить армию размером с немецкий бундесвер. Относительно численности российской армии Каволи, возможно, не вполне прав: набираемый в спешке и без разбору контингент контрактников мало приспособлен к регулярной службе. Однако тактический опыт войны в Украине, безусловно, станет мощным козырем российского военного командования.
Европейские страны больше не могут полагаться на США в обеспечении своей безопасности — им придется быстро наращивать военный потенциал, чтобы уверенно противостоять России, когда та закончит воевать с Украиной, констатируют авторы доклада «Европейская стратегия оборонной промышленности в условиях враждебного мира», выпущенного аналитическим центром Bruegel. Однако дело здесь вовсе не в Трампе. Европа не готова к тому стратегическому вызову, перед которым сегодня стоит.
Военные аналитики описывают разные, но вполне реалистичные сценарии вероятного следующего конфликта — уже на территории одной из стран НАТО. The Financial Times в большом обзоре, посвященном военной слабости Европы, воспроизводит сценарий бывшего главы вооруженных сил Великобритании лорда Дэвида Ричардса и профессора Нидерландской академии обороны Джулиана Линдли-Френча: Россия заявляет о своем контроле над Арктическим континентальным шельфом и захватывает норвежский архипелаг Шпицберген, который является ключом к Арктике. Другой сценарий рисует стремительный захват Литвы, что позволяет связать сухопутным коридором Россию с Калининградской областью (Москва сделала то же самое в Украине, проложив сухопутный коридор в Крым). Что общего в этих сценариях? Оба они подразумевают стремительную оккупацию территории страны НАТО, после чего альянс и европейские правительства оказываются перед критическим выбором: ответить на это ядерным ударом, который приведет к полноценному ядерному конфликту, или втянуться в затяжной конвенциональный конфликт, в котором под угрозой ударов российских ракет окажутся уже не украинские города, а европейские столицы.
Неудача Запада в противодействии путинской агрессии в Украине определенно показала Кремлю, что гибридная модель конвенциональной войны с ядерной угрозой «за пазухой» вполне работает. Российский удар может быть скоординирован с атакой Китая на Тайвань, в результате чего силы НАТО будут разделены между двумя театрами военных действий. Единственное средство защиты от такого сценария — это значительное, а лучше кратное количественное и качественное преимущество европейских сил в конвенциональных вооружениях и средствах защиты, которое позволит уничтожить российскую армию в считаные дни или недели. Но именно до этого состояния Евросоюзу сегодня далеко, как до Луны. И в этом отношении Трамп содержательно прав в своих требованиях к Европе.
Бумажное преимущество и наследие прошлого
На первый взгляд, НАТО и даже его европейская часть располагают бо́льшим количеством вооружений, чем Россия, в особенности это касается качественных вооружений, следует из данных, собранных проектом Фонда Эберта. Так, например, ЕС располагает 147 единицами артиллерии пятого поколения, Россия — 28. Так называемый Веймарский треугольник, включающий Германию, Францию и Польшу, имеет 1668 бронетранспортеров и боевых машин пехоты пятого поколения, в то время как у России таких машин нет в принципе.
Однако фактически это не так, пишет военный аналитик немецкого издания Der Pragmaticus. Например, у европейских членов НАТО около 6,6 тыс. основных боевых танков (MBT), тогда как у России их чуть более 2 тыс. Но большая часть танков НАТО — по расчетам издания, почти 60% — дислоцированы в Греции и Турции, и многие из них либо находятся в нерабочем состоянии, либо устарели. Так, Греция располагает 375 американскими танками M48, которые начали поступать на вооружение еще в 1952 году. У Турции около 750 таких же старых машин, а еще около 2 тыс. находятся на складах и не могут быть использованы сразу. В других ключевых категориях военной техники — таких как, например, системы дальнобойных зенитно-ракетных комплексов — Европа и вовсе уступает России: последняя имеет на вооружении более 2,5 тыс. таких комплексов и пусковых установок, ЕС — 868, подсчитал проект Фонда Эберта. Ни о каком критическом преимуществе, которое могло бы остановить или предотвратить описанный выше сценарий гибридной конвенциональной войны, речь не идет.
Формально Европа тратит на оборону значительно больше России — $380 млрд против $120 млрд, а США — еще больше, почти $920 млрд (→ Re: Russia: Вперед в прошлое). Однако сравнение военных расходов в номинальных долларах или евро лишено смысла, предупреждают авторы доклада Bruegel Гунтрам Вольф и Хуан Мехино. Военные производства — закрытый рынок, и многие внутренние затраты (например, на труд) могут быть несопоставимы. Поэтому следует ориентироваться на паритет покупательной способности, и в таком случае разрыв в «результативности» номинальных расходов между Россией и Европой может существенно сократиться. По подсчетам профессора экономики Университета FOM в Эссене Рихарда Райхеля, в 2020 году российские расходы на оборону в номинальном выражении составляли 8,6% от американских, а с учетом паритета покупательной способности для военной сферы — 25,6%. На самом деле, пишет Райхель, разрыв может быть еще меньше: в государствах с авторитарными режимами цены могут быть значительно ниже рыночных, так как оборонные предприятия находятся там под контролем государства. Впрочем, это преимущество в значительной мере компенсирует широкая коррупция в нерыночном секторе автократий.
Однако в демократических государствах конкуренция в оборонной сфере также искажена государственным вмешательством, отмечают Вольф и Лопес. Помимо того, что в России ниже многие затраты, российский ВПК, в отличие от европейского, экономит на масштабе благодаря централизации закупок. В то же время одной из ключевых особенностей европейского оборонного рынка является его фрагментированность. В эпоху «мирного дивиденда» оборонная отрасль стала зоной государственного протекционизма: правительства размещают оборонные заказы у национальных производителей, часто подстраивая под них уникальные требования к продукции.
Это приводит к незначительным (и по сути искусственным) различиям в национальных стандартах. В итоге если США в 11 укрупненных категориях основных систем вооружений имеют 32 типа различных систем, то Европа — 172 типа, подсчитали аналитики McKinsey. Следствием этого являются более высокие цены продукции в Европе: чем меньше объемы производства, тем выше себестоимость. Самой яркой иллюстрацией фрагментации оборонной промышленности ЕС служит тот факт, что только один европейский производитель — BAE Systems из Великобритании — входит в мировой военно-промышленный топ-10. Лишь три компании из ЕС входят в топ-20.
Крупнейшие мировые производители вооружений, 2022
В экономической эффективности европейский ВПК значительно проигрывает не только России и Китаю, где многие издержки ниже, но и США, где они, наоборот, выше. Например, несмотря на более высокие затраты на рабочую силу в США, себестоимость производства американского танка M1A2 Abrams более чем в полтора раза ниже, чем себестоимость аналогичного немецкого Leopard 2A8. Вероятно, это вызвано низкими объемами производства Leopard, осторожно замечают эксперты Bruegel. Сравнение себестоимости других видов вооружений и снарядов дает похожие результаты.
Оценочная стоимость производства основных боевых танков третьего поколения, € за один танк
Фрагментация рынка приводит, кроме того, к недостаточным инвестициям, которые размазываются по слишком широкому кругу компаний. Это, в свою очередь, вызывает отставание европейских компаний от американских в области исследований и разработок (R&D), отмечают эксперты Bruegel.
Нельзя сказать, что европейские власти не осознают масштаб проблемы. Представленная Еврокомиссией в марте 2024 года Европейская стратегия оборонной промышленности (EDIS) нацелена в том числе на борьбу с фрагментацией рынка. Она предполагает, что к 2030 году до 50% европейских оборонных закупок должны осуществляться централизованно. Для достижения этой цели необходимо стимулировать сотрудничество между производителями, отмечают Вольф и Лопес. Совместные предприятия и проекты на европейском рынке уже есть, однако их должно стать больше. В целом эта сфера очень далека от необходимого уровня интеграции. Но решить задачу будет непросто: «Потребуется огромная политическая воля», — утверждает в интервью Financial Times генеральный директор итальянской оборонной компании Fincantieri Пьер Роберто Фольеро. Производители, у которых меньше шансов в условиях открытой конкуренции, будут оказывать мощное давление на правительства, противодействуя отказу от протекционизма и созданию единого европейского рынка. Вольф и Лопес также советуют европейским властям обратить внимание на опыт Украины, где местные производители успешно используют гражданские технологии при производстве беспилотников, что увеличивает конкуренцию и существенно снижает в итоге себестоимость и цены.
Без реструктуризации оборонного сектора, его оптимизации и повышения уровня конкурентности продвинуться в решении стоящей перед Европой стратегической задачи в любом случае не удастся. Однако реструктуризация сама по себе проблемы не решит. Европейцам придется взять на себя бо́льшую часть оборонного бремени, признаёт в разговоре с Financial Times высокопоставленный представитель европейских служб безопасности. Европа не достигнет цели с уровнем оборонных расходов 2% ВВП, утверждает новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, претендующий сегодня на место лидера европейского оборонного проекта. Чем больше мы тратим на оборону, тем больше мы снижаем риск будущего конфликта, настаивает Рютте.
Между тем сегодня бюджетный процесс в основных европейских странах, в принципе, не предполагает возможности маневра по увеличению расходов на оборону до 2,5 или 3% ВВП. Правительственный кризис в Германии — одна из демонстраций этого обстоятельства. Европа живет привычками и институтами, выработавшимися в эпоху «мирного дивиденда», когда риск масштабного военного столкновения выглядел минимальным. Ряд политиков и экономистов, а также официальные представители Италии, Польши и Греции выступают за выпуск странами ЕС совместных облигаций для финансирования дополнительных расходов на оборону. Бизнес-аналитики утверждают, что такой сценарий вызовет ажиотаж на рынке и собрать деньги не будет проблемой (→ Re: Russia: Бумажная оборона и стратегическая неавтономия). Но этому плану противятся ряд стран, в том числе Германия и Нидерланды, категорически возражающие против роста государственного долга.
Другая возможность — перенаправление десятков миллиардов евро из общего бюджета, предназначенных для сокращения экономического неравенства между странами ЕС, пишет FT. Однако этому плану будут противиться те страны Центральной и Юго-Восточной Европы, которым и предназначены эти деньги. Именно в этих странах правые популисты, ратующие за сокращение поддержки Украины и заключение мира на любых условиях (то есть на условиях Москвы), особенно сильны. В целом ажиотаж в Европе вокруг «мирного соглашения» в Украине играет вредную роль, потому что пропагандируется политиками и воспринимается избирателями как альтернатива трудным решениям о наращивании оборонных расходов. Кто сумеет переубедить европейцев, что дело обстоит ровно противоположным образом и что мирное соглашение — это, скорее всего, лишь передышка и вполне определенный шаг к будущей войне?
Читайте также
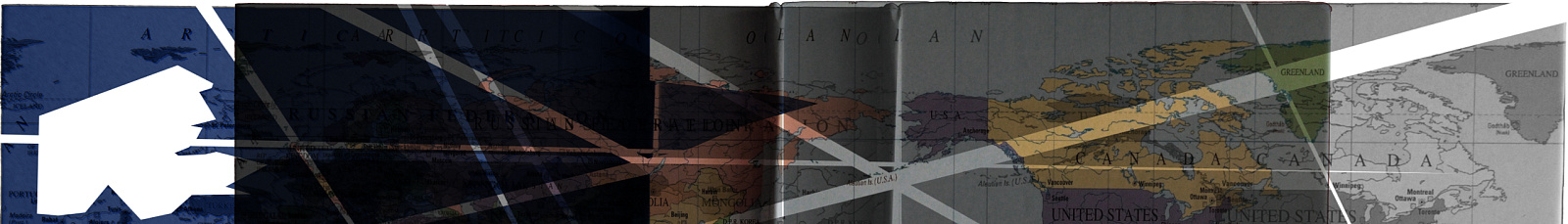 Европейская неготовность: опубликованная стратегия перевооружения ЕС обнажила проблемы, решение которых находится за пределами полномочий Еврокомиссии
Финансовый план ReArm Europe и доклад «Европейская готовность к обороне 2030» призваны прочертить стратегию перевооружения континента и создания системы безопасности в условиях одновременного роста российской угрозы и ослабления гарантий США, но высвечивают ряд дилемм, традиционных для проектов углубления европейской интеграции.
Европейская неготовность: опубликованная стратегия перевооружения ЕС обнажила проблемы, решение которых находится за пределами полномочий Еврокомиссии
Финансовый план ReArm Europe и доклад «Европейская готовность к обороне 2030» призваны прочертить стратегию перевооружения континента и создания системы безопасности в условиях одновременного роста российской угрозы и ослабления гарантий США, но высвечивают ряд дилемм, традиционных для проектов углубления европейской интеграции.
.jpg) Две с половиной Европы: украинский вопрос и будущее континента в зеркале европейского общественного мнения
Европейское общественное мнение застигнуто врасплох «изменой» США и не готово противостоять сговору Путина и Трампа, несмотря на то что эта «сделка» существенно расходится с представлениями европейцев о справедливости и собственных ценностях. Саму Европу украинский вопрос разделил на два полюса и три лагеря.
Две с половиной Европы: украинский вопрос и будущее континента в зеркале европейского общественного мнения
Европейское общественное мнение застигнуто врасплох «изменой» США и не готово противостоять сговору Путина и Трампа, несмотря на то что эта «сделка» существенно расходится с представлениями европейцев о справедливости и собственных ценностях. Саму Европу украинский вопрос разделил на два полюса и три лагеря.
 Альтернатива для Европы: немецкий бундестаг снимает бюджетный тормоз ее политического самоопределения
Завтра в бундестаге состоится голосование, которое может стать поворотным моментом в политической истории современной Европы. Снятие «долгового тормоза» и ограничений на заимствования в крупнейшей европейской экономике откроет возможности для реализации программы перевооружения Европы и ее превращения в полноценный оборонный союз.
Альтернатива для Европы: немецкий бундестаг снимает бюджетный тормоз ее политического самоопределения
Завтра в бундестаге состоится голосование, которое может стать поворотным моментом в политической истории современной Европы. Снятие «долгового тормоза» и ограничений на заимствования в крупнейшей европейской экономике откроет возможности для реализации программы перевооружения Европы и ее превращения в полноценный оборонный союз.