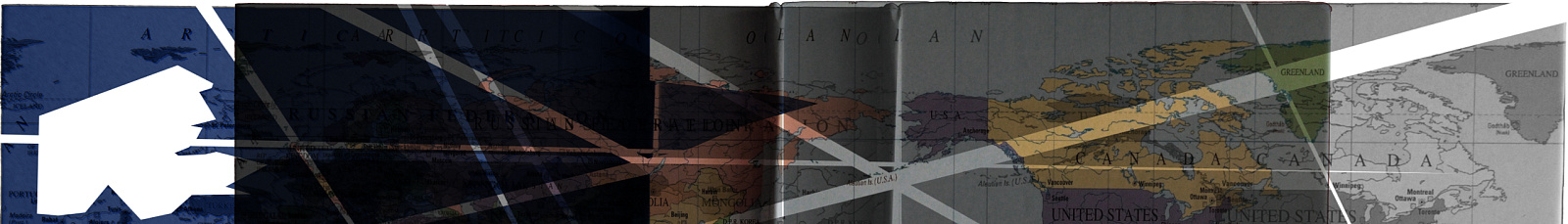
Европейская неготовность: опубликованная стратегия перевооружения ЕС обнажила проблемы, решение которых находится за пределами полномочий Еврокомиссии
Финансовый план ReArm Europe и доклад «Европейская готовность к обороне 2030» призваны прочертить амбициозную стратегию перевооружения континента и создания системы безопасности в условиях одновременного роста российской угрозы и ослабления гарантий США. Однако эта попытка высветила целый ряд дилемм, которые, впрочем, нередко сопутствуют проектам углубления европейской интеграции.
В частности, в настоящее время возникает угроза нескоординированности и конкуренции национальных планов укрепления обороноспособности и общеевропейской стратегии. Это лишь углубит рассогласованность европейских военных программ, которая является одной из важнейших причин низкой эффективности европейских расходов на оборону.
Финансовый план резкого повышения расходов на оборону также грозит ростом противоречий между сильными и слабыми экономиками Европы. Для одних невыгодным выглядит наращивание общего долга, стоимость которого будет выше национальных долговых обязательств, для других угрозу как раз представляет наращивание последних.
Ограничения на импорт соответствуют долгосрочной цели создания мощного европейского оборонного потенциала, но противоречат краткосрочной цели обретения политической субъектности и компенсации ослабления американских гарантий. Регуляторные ограничения на импорт вооружений также неизбежно обернутся и уже оборачиваются снижением конкурентоспособности европейской военной продукции.
Опубликованные предложения следует рассматривать лишь как первый шаг на пути создания новой системы европейской безопасности. А их предварительный анализ указывает на центральную ее проблему: решение вставших перед Европой вопросов в принципе выходит за рамки мандата Еврокомиссии и требует делегирования дополнительных полномочий, которые раньше были делегированы лишь в рамках коллективного договора НАТО.
Дробление суверенитета и интеграция суверенитетов
Европейские лидеры не жалеют эпитетов, чтобы подчеркнуть значимость нынешнего исторического момента и острую необходимость срочно решить проблему повышения обороноспособности Европы. Верховный представитель ЕС по международным делам Кая Каллас утверждает, что наступил «поворотный момент для европейской безопасности», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — что Европе следует готовиться к войне, чтобы сохранить мир.
Общей цели перевооружения и укрепления Европы должна послужить обнародованная Еврокомиссией в марте и беспрецедентная в истории европейского сообщества стратегия повышения обороноспособности, изложенная в двух документах — плане ReArm Europe и докладе «Европейская готовность к обороне 2030». Главным предметом первого является определение параметров и источников финансирования стратегии. Предполагается в течение четырех лет потратить €800 млрд, источником которых станут увеличение национальных расходов на оборону стран-участниц (€650 млрд) и специальные общеевропейские заимствования SAFE (Security Action for Europe). Второй документ определяет рамочные параметры того, как и на что должны тратиться эти деньги и какие изменения в регулировании европейского оборонного рынка для этого необходимы. Отдельный раздел документа посвящен «стратегии дикобраза» — планам по вооружению и поддержке оборонной промышленности Украины, которая, как отмечается, должна в перспективе быть интегрирована в европейский оборонный сектор.
Перевооружение Европы и перестройка ее оборонного комплекса — принципиально новый тип задачи для ЕС. Хотя первая стратегия укрепления европейской обороны «Стратегический компас» была опубликована в марте 2022 года, кардинально изменившийся геополитический контекст формирует принципиально иные вызовы. Если та стратегия рассматривалась как элемент поддержки и расширения оборонного щита Европы в лице НАТО, то теперь задачей является компенсировать возможное снижение значимости этого щита в условиях резко возросшей внешней угрозы.
Европейский союз — это уникальное объединение, где суверенитет стран-участниц распределен между национальным и наднациональным уровнями в экономической и политической сферах. В области безопасности и обороны суверенитет также распределен между двумя уровнями — коллективной обороной НАТО и национальными армиями, которые опираются на потенциал национальной военной промышленности и закупки вооружений в рамках национальных бюджетов. В этот конструктивный треугольник (национальный суверенитет — ЕС — НАТО) теперь предстоит втиснуть еще один уровень наднациональной ответственности, который необходимо будет гармонизировать с уже существующими. И, как всегда, это будет крайне непросто.
Дилемма национального и наднационального
Первая дилемма, с которой столкнется Европа, — это национальное и общеевропейское понимание безопасности. Пока, реагируя на возросшие угрозы, европейские страны прежде всего задумываются о национальной безопасности. Германия, Финляндия, Швеция и Польша уже объявили о собственных стратегиях радикального укрепления национальных сил и средств обороны и намерены выделить на это значительные ресурсы. Однако возникает угроза, что эти масштабные планы государств, ощущающих себя в новых условиях почти прифронтовыми, не будут синхронизированы и согласованы с общеевропейскими, что снизит эффект кооперации в коллективной защите.
Об этой проблеме писал ранее в программном докладе «Будущее европейской конкурентоспособности» бывший глава ЕЦБ Марио Драги. Европа тратит на оборону совсем не мало. Однако странам сообщества не хватает политической воли в объединении ресурсов и совместного финансирования, закупок, обслуживания и модернизации оборонной продукции. В ЕС до сих пор нет централизованного органа для управления инициативами в области промышленной обороны и безопасности. Однако доклад «Европейская готовность» не решает этой проблемы, отмечают в комментарии к нему эксперты Центра Карнеги София Беш и Эрик Браун. Он ставит слишком ограниченные цели — так, «как будто выборы в США еще не случились», иронизируют авторы.
Как указывал Драги, в отсутствие единого центра планирования и закупок для европейской оборонной промышленности характерна чрезмерная фрагментация почти во всех сферах производства. Это стало особенно заметно на поле боя в Украине: страны Европы предоставили Киеву около десяти различных типов гаубиц калибра 155 мм, что создало серьезные логистические трудности для ВСУ. США после холодной войны провели консолидацию оборонной промышленности, сократив промышленную базу страны с 51 до пяти основных игроков. В Европе же в настоящее время производится пять различных типов гаубиц (в США — только один), 12 типов боевых танков (в США — один). Оставляя ведущую роль в выработке стратегий перевооружения национальным правительствам, Европа рискует столкнуться с лоббизмом национальных промышленных групп и еще большей раскоординированностью.
Но дело не только в фрагментации. Предложенная Европейской комиссией стратегия игнорирует реальные риски дальнейшего расхождения с США и европейские потребности в собственной системе коллективной обороны. Некоторые проблемы, созданные этими рисками, вообще не могут быть решены на национальном уровне. Так, например, хотя Европейский совет включил в число приоритетных оборонных проектов противовоздушную и противоракетную оборону, системы беспилотников и кибервозможности, он не указал, из каких источников будут финансироваться эти общеевропейские потребности, кто будет координировать совместные усилия и затем использовать общую систему. Эксперты Bruegel предлагали ранее рассматривать создание европейской системы ПВО в качестве Европейского общественного блага (EPG), что позволит финансировать ее на уровне Брюсселя (ранее такой статус получила, например, закупка вакцин во время пандемии COVID-19, а также инициатива Next Generation EU). Однако опубликованная стратегия не упоминает механизмы EPG и обходит решение этой проблемы.
Таким образом, оценивая стратегию, эксперты недовольны предложенным в ней низким уровнем интеграции европейской обороны и считают, что ее подход не соответствует политическому моменту — реальному уровню угрозы выхода США из евроатлантической системы безопасности. Впрочем, решение некоторых поставленных комментаторами вопросов явно лежит за пределами компетенций Европейской комиссии.
Дилемма неравенства
Вторая — столь же привычная, как и дискуссия о границах национального суверенитета, — проблема, с которой придется иметь дело Европе в попытках организовать свое коллективное перевооружение, — это разрыв между продвинутыми и сильными экономиками и более слабыми странами. Так, например, инструмент заимствований SAFE на первый взгляд выглядит хорошим универсальным решением. Однако эти заимствования образуют общеевропейский долг, обслуживание которого ляжет на весь ЕС. Но в реальности у шести европейских стран (Дания, Германия, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды и Швеция) кредитный рейтинг выше общеевропейского, в то время как у прочих — ниже. Соответственно, для первой шестерки инструмент выглядит невыгодным, в то время как для слабых экономик рост долговой нагрузки будет проблемой, и не факт, что они смогут обслуживать этот долг в будущем.
То же самое касается и требования к увеличению национальных расходов на оборону, за счет которых должны сложиться €650 млрд дополнительных расходов на перевооружение из плана ReArm Europe. Ради этого Еврокомиссия позволит странам-членам увеличить предельный размер бюджетного дефицита, включая в существующие ограничения лишь 1,5% ВВП расходов на оборону и выведя из-под них все остальные оборонные траты. Финансируя дополнительный дефицит за счет рыночных инструментов, страны будут увеличивать свой долг на национальном уровне, однако это создаст дополнительные риски для тех стран, которые уже имеют значительный долг, отмечают эксперты Bruegel. В этом случае кризис безопасности, вызванный войной на Украине, может перерасти в финансовый кризис для стран с нестабильным финансовым положением, пишут они, что станет — в свою очередь — проблемой для Евросоюза в целом.
Наконец, страны с сильным военным потенциалом и — соответственно — сильной оборонной промышленностью в наибольшей степени будут заинтересованы в том, чтобы переносить значительную часть усилий по укреплению обороноспособности на национальный уровень. Это позволит им компенсировать в какой-то мере возросшие расходы на оборону за счет загрузки мощностей и положительного эффекта от этого для экономики. В то же время слабые страны смогут внести лишь незначительный вклад в финансирование коллективных закупок.
Дилемма импорта
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя доклад «Европейская готовность», призвала страны ЕС покупать больше европейских вооружений для «укрепления европейской оборонно-технологической и промышленной базы». На развитии европейского промышленного потенциала, который должен подстегнуть европейскую промышленность и экономику в целом, делают упор и другие европейские лидеры, в том числе президент Франции Макрон. Зависимость стран ЕС от оборонного импорта действительно высока. Как отмечал в своем докладе Драги, из €75 млрд, направленных государствами-членами на оборону с июня 2022 по июнь 2023 года, почти 80% потрачены на импорт вооружений: 63% — на заказы в США и еще 15% — в других странах, не входящих в ЕС. При такой структуре расходов Европа всегда будет оставаться зависимой от США в оборонном и политическом смысле.
Развитие европейской оборонной промышленности — важная цель. Однако ЕС сталкивается здесь с третьей дилеммой своей стратегии перевооружения. Если целью является быстрое достижение обороноспособности в условиях возможного ослабления НАТО и расхождения политических целей Европы и США (в частности, в украинском вопросе), то на создание собственной военно-промышленной базы просто нет времени. После десятилетий недофинансирования даже значительные объемы инвестиций не позволят в короткие сроки решить проблему повышения обороноспособности, отмечает директор Центра европейских ценностей по вопросам политики безопасности Якуб Янда. Европе не хватает промышленного потенциала, и решение проблемы займет не менее трех-семи лет.
В такой перспективе первоочередной задачей становится восполнение пробелов в обороне за счет прежде всего закупок соответствующих типов вооружений на стороне (в том числе это относится и к решению задачи оказания военной помощи Украине в условиях вероятного прекращения этой помощи со стороны США → Re: Russia: Цена момента).
Между тем представленная стратегия перевооружения налагает ограничения на использование средств на закупки вооружения за пределами ЕС. Так, расходы в рамках инструмента SAFE могут осуществляться в странах ЕС, а также в странах, входящих в Европейскую ассоциацию свободной торговли (Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн), странах-кандидатах в ЕС (включая Украину и Турцию), а также в странах, с которыми у ЕС подписаны партнерские соглашения в области обороны и безопасности (к ним относятся Молдова, Южная Корея, Япония, Албания и Северная Македония). Продукция в рамках этой схемы может приобретаться только у компаний, «созданных и имеющих штаб-квартиры» в ЕС/ЕЭЗ/ЕАСТ и в Украине, а компоненты, составляющие не менее 65% стоимости конечного продукта, должны иметь европейское происхождение.
Интересно, что на уровне национальных стратегий, сталкиваясь с реальными угрозами безопасности, некоторые европейские страны выбирают как раз путь быстрого повышения обороноспособности за счет импорта, в том числе замещая американские поставки. Так, в качестве альтернативы HIMARS Польша приобрела 288 южнокорейских реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo, а Испания, Германия и Нидерланды — израильские ракетные артиллерийские системы PULS с дальностью до 300 км, отмечает в комментарии для War on the Rocks научный сотрудник Центра безопасности Свободного университета Брюсселя Лотье Босвинкель.
Сеул сегодня становится одним из ключевых поставщиков для Европы и в других видах вооружений, отмечает военный эксперт Себастьен Роблен в комментарии для Breaking Defence. Особенно для Варшавы, которая ощущает себя практически прифронтовым государством. В декабре 2022 года в Польшу начала прибывать партия из 180 корейских танков Hyundai K2 Black Panther, еще 820 таких танков Польша в соответствии с контрактом намерена произвести внутри страны. Танки K2 Польша предпочла немецким Leopard, поскольку темпы поставок корейских машин в 15 раз превосходят немецкие, а сами танки значительно дешевле. Варшава также закупила 672 южнокорейские самоходные гаубицы K9 и 48 легких истребителей FA-50, а в ближайшее время намерена построить крупный центр технического обслуживания и производства деталей для корейской техники. Это станет дополнительным аргументом в пользу расширения объемов поставок корейских вооружений для стран Скандинавии, Восточной Европы и Балтии.
Еще одной возможностью для быстрого повышения обороноспособности ЕС является сотрудничество с Турцией (→ Re: Russia: Два подхода) и Израилем. Однако во всех трех случаях (включая Корею) придется «донастраивать» правила закупок и сотрудничества. Кроме того, ключевым партнером в перевооружении Европы и обеспечении европейской безопасности, безусловно, является Великобритания. «Европейская готовность» упоминает это стратегическое партнерство в одном небольшом абзаце, но никак не конкретизирует его механизмы.
Наконец, острую проблему в политическом, военном и технологическом смысле будет представлять для Европы резкое сокращение закупок военной техники в США. Зависимость от американских поставок имеет «глубокие корни», говорит эксперт Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Питер Веземан. Вскоре после Второй мировой войны им не было альтернативы, а затем европейские правительства рассматривали затраты на дорогое американское оружие как компенсацию высоких расходов США на оборону и их обязательств по защите Европы. По многим типам вооружений и боеприпасов Европа не может преодолеть эту зависимость, которая складывалась десятилетиями, соглашается Босвинкель. К тому же процедура покупки американских вооружений во многом гораздо более предсказуема, чем европейских. В феврале Министерство обороны Нидерландов объявило о планах закупить американские ракеты Tomahawk морского базирования, предпочтя их европейским альтернативам (французской Missile de Croisière Naval и британо-французской FC/ASW), поскольку не было уверено в их дальности, совместимости с другими видами вооружений и в исполнении заявленных сроков разработки.
Ограничения на импорт соответствуют долгосрочной цели создания мощного европейского оборонного потенциала, но противоречат краткосрочной цели обретения политической субъектности и компенсации ослабления американских гарантий в условиях резкого повышения уровня опасности. Регуляторные ограничения на импорт вооружений также неизбежно обернутся и уже оборачиваются снижением конкурентоспособности европейской военной продукции. В целом же опубликованные в марте документы по стратегии перевооружения Европы можно рассматривать лишь как первый шаг на этом пути, фокусируясь при этом на ее потенциально конфликтных, противоречивых и нерешенных вопросах и положениях. Более того, предварительный анализ стратегии указывает на, возможно, центральную ее проблему: решение многих вставших перед европейскими странами и правительствами вопросов в принципе выходит за рамки нынешнего мандата Еврокомиссии и требует делегирования дополнительных полномочий, которые раньше были делегированы лишь в рамках коллективного договора НАТО.
Читайте также
.jpg) Две с половиной Европы: украинский вопрос и будущее континента в зеркале европейского общественного мнения
Европейское общественное мнение застигнуто врасплох «изменой» США и не готово противостоять сговору Путина и Трампа, несмотря на то что эта «сделка» существенно расходится с представлениями европейцев о справедливости и собственных ценностях. Саму Европу украинский вопрос разделил на два полюса и три лагеря.
Две с половиной Европы: украинский вопрос и будущее континента в зеркале европейского общественного мнения
Европейское общественное мнение застигнуто врасплох «изменой» США и не готово противостоять сговору Путина и Трампа, несмотря на то что эта «сделка» существенно расходится с представлениями европейцев о справедливости и собственных ценностях. Саму Европу украинский вопрос разделил на два полюса и три лагеря.
 Альтернатива для Европы: немецкий бундестаг снимает бюджетный тормоз ее политического самоопределения
Завтра в бундестаге состоится голосование, которое может стать поворотным моментом в политической истории современной Европы. Снятие «долгового тормоза» и ограничений на заимствования в крупнейшей европейской экономике откроет возможности для реализации программы перевооружения Европы и ее превращения в полноценный оборонный союз.
Альтернатива для Европы: немецкий бундестаг снимает бюджетный тормоз ее политического самоопределения
Завтра в бундестаге состоится голосование, которое может стать поворотным моментом в политической истории современной Европы. Снятие «долгового тормоза» и ограничений на заимствования в крупнейшей европейской экономике откроет возможности для реализации программы перевооружения Европы и ее превращения в полноценный оборонный союз.
 От стратегической автономии к оборонному союзу: предательство Трампа подталкивает Европу к обретению полноценного коллективного суверенитета
Сепаратные переговоры Дональда Трампа с Путиным заставляют Европу пересмотреть представления о собственном коллективном суверенитете и месте на мировой арене. Для достижения полноценной стратегической автономии Европе потребуется около 10 лет и $3 трлн, считают эксперты, что означает увеличение совокупных расходов на оборону до 3,5% ВВП.
От стратегической автономии к оборонному союзу: предательство Трампа подталкивает Европу к обретению полноценного коллективного суверенитета
Сепаратные переговоры Дональда Трампа с Путиным заставляют Европу пересмотреть представления о собственном коллективном суверенитете и месте на мировой арене. Для достижения полноценной стратегической автономии Европе потребуется около 10 лет и $3 трлн, считают эксперты, что означает увеличение совокупных расходов на оборону до 3,5% ВВП.