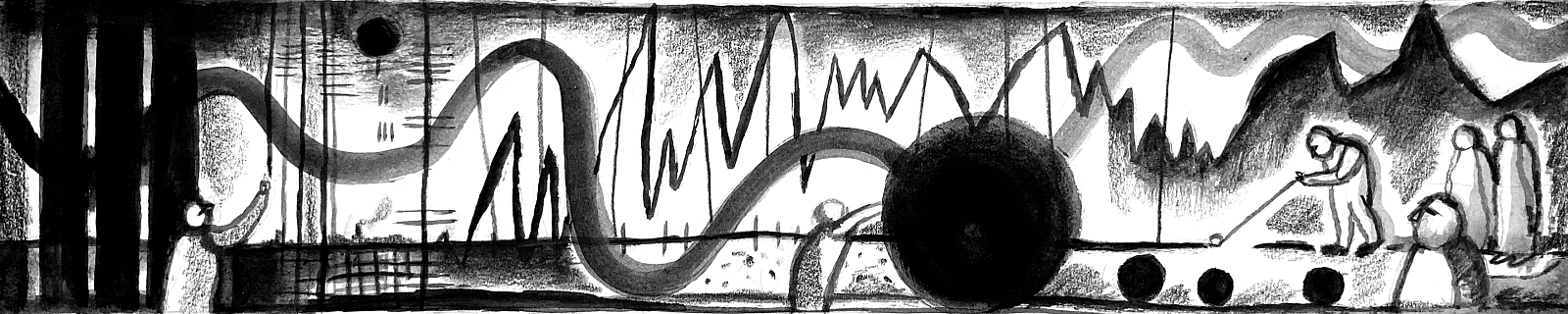
Режим имперской паранойи: война в эпоху пустословия
Упадок идеологий и паранойя деспотического
Одна из основных отличительных черт нынешней войны в Украине — отсутствие всякого видимого смысла. Комментаторы пытаются объяснить ее по-разному — кто-то имперскими амбициями России, кто-то личной ненавистью Путина к Украине, а кто-то и безумием российского президента. В самом начале войны было отчетливо видно, что даже члены Совета безопасности России не в силах понять происходящее. Невозможность постичь причины войны объясняет и неспособность мировых лидеров, включая Зеленского, поверить в ее возможность буквально до самого начала вторжения.
Связано это, на мой взгляд, с упадком идеологий. Идеология — в значительной мере продукт секуляризации больших религиозных доктрин. Идеологии возникают тогда, когда религии начинают приходить в упадок. Нетрудно увидеть эсхатологические корни марксизма или нацизма с их подчиненностью утопии будущего — коммунизма или тысячелетнего рейха. Но можно сказать, что потенциал идеологий исчерпал себя в промежутке между концом XVIII века с его идеей прогресса и разума и концом XX века. Сегодня от идеологий остался призрак в виде бессмысленной идеи экспансии.
В блестящей статье «Два режима безумия» Жиль Делез называет один из этих режимов имперским. Для него характерна бесконечная экспансия параноидального типа. Параноидальный имперский режим строится на разворачивании бесконечной последовательности: «Знак отсылает к другим знакам, а эти знаки отсылают к другим знакам, и так до бесконечности (иррадиация, всегда расширяющееся движение)… Таков параноидальный режим знака, но мы могли бы также назвать это деспотическим или же империальным режимом». Делез пишет о таком параноидальном обществе, что все оно зависит от некоего «означающего-деспота», который порождает цепочки бесконечной трансляции знаков: «…существует означающее деспота; и прямо под ним бесконечная сеть знаков, которые отсылают друг к другу. В равной мере нужны разного рода категории людей, на которых будет возложена задача распространять знаки, говорить, что они значат, интерпретировать их, фиксировать их означаемое: священники, бюрократы, гонцы и т. д.»
Такая система создает иллюзию смысла. Она целиком исчерпывается повторением и тиражированием бессмыслицы, производимой деспотом. Главный эффект такой системы заключается в том, что вместо смысла повторение производит эффект лояльности, преданности и всеохватности. Никто не может объяснить смысла войны, но можно бесконечно расширять знаковые цепочки, которые достигнув воображаемых пределов обещают произвести смысл. Однако этого так и не происходит. Происходит только экспансия знаков, захватывающая все более широкий круг людей. И хотя такая паранойя производит лишь бесконечное повторение и тиражирование невнятицы, она проникает повсюду, не оставляя места для молчания или увиливания.
Многополярность экономики и мираж суверенности
Война не имеет ни объяснения, ни смысла. Но будучи квинтэссенцией бессмысленности, она парадоксально организует мир как некую мнимую констелляцию смысла. Семиотика в своих основаниях бинарна и построена на оппозициях. Но именно эта бинарность в последнее время исчезла из дискурсивного поля.
В 1994 году политолог Заки Лайди написал книгу, которая называется «Мир, лишенный смысла». Он описывает в ней процесс постепенного исчезновения политических оппозиций, который он называет глобализацией. Глобализация — это повсеместное замещение политики экономикой. А экономика строится на принципах совсем другой семиотики, нежели имперская паранойя. Капитализм порождает множество узлов, связанных с другими узлами. Вместо бесконечной однообразной трансляции деспотического означающего мы имеем структуру сети, с множеством центров и связей, которые никак не описываются бинарностями. Это связи, создаваемые желанием, потреблением и обменом.
Понятно, что такая система плохо производит устойчивые и внятные смыслы. Отсюда повсеместное чувство утраты смысла и направления, охватившее Запад после сноса берлинской стены. Путин много говорит о многополярном мире, хотя мечтает на самом деле о бинарном. Господство сегодняшней глобальной экономики — и есть многополярный мир. Он строится вокруг дисперсии центров, которая повсеместно ведет к ослаблению государств и политики. Влияние в мире постоянно смещается в область экономики, а это приводит к упадку традиционных структур власти, которая неотделима от производства смысла. Лайди говорит об этом совершенно однозначно: «Власть — ничто, когда она не имеет смысла».
Можно сказать, что российский мятеж против всеобщих правил мирового устройства — это мятеж против господства экономики со стороны государства со слабой и неконкурентной экономической базой. Это попытка противопоставить слабой власти экономических гигантов мираж суверенности (о которой так часто говорит Путин) и мираж смысла — исторического, мифологического и т. д. Такое противостояние опирается на армию — традиционное воплощение самой идеи силы. Россия хочет противостоять западной экономической экспансии и хочет ей противостоять тем сильнее, чем «слабее» ей кажется господство, не опирающееся на грубую силу имперской паранойи.
Своеобразие же сегодняшней ситуации заключается в том, что распавшаяся империя не может собраться воедино кроме как через производство и повторение слов. И это восстановление империи из руин совершенно невозможно еще и потому, что Россия уже давно заражена «глобализацией». Ведь российский обыватель давно обжился в мире капиталистического потребления и хорошо вписан в сеть микроцентров желания, а государство российское все еще живет химерами имперскости, делая непомерную ставку на фетиш «деспотического означающего». В этой связи кажется симптоматичным то, что средний класс России так болезненно переживает возникновение препятствий на пути к западным «центрам желания», в то время как российские идеологи предлагают им обживать не существующую Евразию имперской паранойи.
Российские гетеротопии и возвращение бинарности
Мне кажется, что капсулирование России, ее выпадение из мира и современности хорошо описывается в категориях «гетеротопии» — термина, когда-то предложенного Мишелем Фуко. К области странной географии гетеротопии относятся места, выпадающие из нормы социального существования. К ним могут относиться театры военных действий или никем не признанные территории-изоляты, которыми последние годы активно окружает себя Россия. Но это могут быть и несуществующие территории фантазии, вроде той же Евразии Дугина. Фуко ввел термин гетеротопии в 1967 году и определил им некие странные пространственные образования, в которых нормативность не просто нарушена, но вывернута наизнанку.
Эти странные регионы, которые существуют между фантазмами и реальностью насилия, — это действительно зоны девиантности, в которых больше нет ни экономики, ни закона, ни политики, ни идеологии, а есть чистый фантазм суверенной власти. И кажется очень показательным в этой связи сращение российской армии с криминалитетом, особенно в таком супергетеротопном образовании, как ЧВК «Вагнер». Гетеротопии, порождаемые Россией, почти повсеместно воспроизводят криминальные сообщества, неожиданно претендующие на роль фантастической модели будущего.
Вместе с тем эти острова «кошмара», лишенные всякого смысла, претендуют на способность наделять смыслом и соответственно политическим измерением многополярность экономического общества, у которого появляется «враг». Враг создает видимость бинарности. Вспомним Карла Шмитта с его представлением о том, что политика возникает тогда, когда возникает враг, и что враг — это смыслообразующее понятие политики. Российская гетеротопия позволяет миру обрести цель и единство. Если в России цель войны так и остается непонятной, для окружающего Россию мира эта цель приобретает все более внятные очертания. В глазах экономических цивилизаций Россия определяет себя в качестве «варвара», «другого», принципиальной девиантности.
Не так давно считалось, что Запад никогда не пойдет на радикальные санкции, потому что это противоречит его экономическим интересами, что он не может оставить своих избирателей без газа, без отопления. Считалось, что корпорации никогда не покинут российский рынок, потому что они потеряют большие доходы и т. д. И неожиданно для всех экономика повсюду, кроме России, решительно отступает. Вместо нее являет себя некое подобие идеологии. Пустое говорение уступает место упрощенной, бинарной картине мира. Запад неожиданно обретает способность действовать, которой Россия, кажется, безнадежно лишена. Именно на Западе, а не в России, обнаружилась способность во имя идей и морали претерпевать лишения.
Западный мир, пускай на время, но вышел из ничтожества чисто экономического интереса. Перед ним возник образ чистого зла, требующего мобилизации. Но это нравственное «упрощение» мира легло на почву несколько инфантильной риторики сказок и фэнтези, заполонивших массмедиа. В Украине это понятным образом ощущается особенно ясно, когда речь идет об орках, Мордоре, Вальдеморте и т. д. Впрочем, Кремль сам постоянно стилизует себя под фильмы о Джеймсе Бонде (например, километровый стол Путина или карикатурный френч Соловьева буквально взяты из подобных фильмов).
Словесный хлам и имитация мобилизации
Описывая режим имперской паранойи, Делез говорил о необходимости людей, «на которых будет возложена задача распространять знаки, говорить, что они значат, интерпретировать их, фиксировать их означаемое». Речь тут идет о бесконечном производстве слов, не имеющих отношения к действительности. И это одна из наиболее впечатляющих черт российского общества, в котором говорение и производство означающих приобрело немыслимые масштабы. В рамках этой поэтики словесного хлама несуществующие нацисты осуществляют геноцид русского народа, Россия не нападает на Украину, а отражает ее агрессию и т. д. Здесь буквально происходит гетеротопная реверсия означающих.
Когда-то Кьеркегор написал проницательный текст «Два века», в котором, вероятно впервые, поставил вопрос о массовом производстве словесного хлама (snak в его лексиконе, а в английском переводе — chatter). Кьеркегор устанавливает там различие между двумя эпохами — эпохой революции и «сегодняшним веком». Век революции — это век, пронизанный идеологией, а потому и смыслом. Существование в нем сопровождается страстью, а потому, как пишет философ, «имеет форму». Важным аспектом века революции является энтузиазм, который Кант считал едва ли не самым важным революционным аффектом. Сегодняшний век — лишен всякой идеи и энтузиазма, он погружен в поверхностное отсутствие всякой осмысленной активности. Кьеркегор пишет о доминировании vis inertia — силы инерции. Самое важное в сегодняшнем веке, что он продолжает при этом имитировать эпоху подлинности, страстей и действий. Но все это полностью переносится в некий социальный театр.
При этом чем иллюзорней порядок, тем больше слов производится во имя его иллюзорного сохранения. Хорошо известно, что фундаментом российской государственности является коррупция. Но чем глубже и бессовестней эта коррупция, тем более патриотические речи производят воры и взяточники. Словесный хлам становится фасадом социальной фикции, вроде Новороссии или Российской империи. Тот факт, что руководство Российской Федерации с таким невероятным упорством отказывалось называть войну войной, в этом смысле показателен. Война требует мобилизации и смены образа жизни. И именно этого требуют маргинальные радикалы вроде Гиркина. Но власть отчетливо осознает, что общество не имеет никакого мобилизационного потенциала и способно только на кьеркегоровский snak.
Именно неспособность к мобилизации радикально отличает российский режим от подлинно тоталитарных режимов Сталина или Гитлера. Те были способны на войну и мобилизацию. Ханна Арендт писала, что тоталитаризм невозможен без движения и мобилизации: «…идея господства была чем-то таким, чего ни государство, ни обычный аппарат насилия никогда не смогут добиться, но может только Движение, поддерживаемое в вечном движении, а именно достичь постоянного господства над каждым отдельным индивидуумом во всех до единой областях жизни».
В режиме имперской паранойи бесконечное размножение означающих начинает выполнять роль симулякра мобилизации при общем сохранении полной социальной пассивности. При этом потребительская культура российского общества проявляется в том, что главной мотивировкой солдат без всяких колебаний провозглашаются деньги, а не идеи. Деньги — вот последнее прибежище деградировавшего энтузиазма. Именно поэтому мародерство стало одним из символов русского вторжения в Украину.
Путинский универсум — это универсум тотальной стабильности, переходящей в паралич. И эта гнетущая стабильность странным образом не противоречит военным авантюрам, которые приемлемы лишь в той мере, в которой они вписываются в мнимую неподвижность. Поэтому, что бы ни происходило на фронте, война будет называться «специальной военной операцией», то есть чисто театральным симулякром войны. Как бы ни обрушивался фронт, власть будет делать вид, что военная операция и социальная неподвижность — это одно и то же. Не случайно как раз во время обрушения фронта на изюмском направлении Путин открывал в Москве аттракционное колесо обозрения. Бессмысленно крутящееся на месте колесо — идеальная метафора происходящего.
Сэмюел Маккормик, посвятивший пустому говорению специальное исследование, заметил, что его появление сопровождает возникновение индустриального общества, с его культом бесконечно работающих машин и крутящихся колес. Многократно было отмечено, что в индустриальном обществе не инструмент подчиняется человеку и его потребностям, но наоборот. Машина, остановка которой равноценна катастрофе, должна непрерывно работать и производить, тем самым превращаясь из средства в цель, а обыватель должен покупать продукт, хотя в нем и не нуждается, лишь бы машина не остановилась. То же самое происходит и с речью, которая из средства коммуникации превращается в цель, не имеющую смысла. Поэтому так показательна легкость, с которой полумеханические тролли или автоматические боты вписываются сегодня в этот процесс движения коммуникационных колес.
Война как феномен риторики
В ситуации исчезновения бинарностей и осмысленной коммуникации на передний план начинает выдвигаться риторика. Она является способом организации смыслов через бесконечную систему подобий, переносов, риторических сближений и т. д. Риторика работает в области антиномий, а не в области оппозиций. Антиномия — это то, что не может быть сближено, разрешено. Риторика — это механизм гетеротопии, которая, по выражению Фуко, «обладает способностью совмещения в одном реальном месте множества пространств… которые сами по себе несовместимы».
В этот момент риторика начинает играть важную роль. Тем более что ее сферой оказывается область убеждения, но не область смыслов. Смыслы становятся нерелевантными и удаляются в область мифов. И это хорошо видно в том дискурсивном поле, которое производится в нашей стране. Идеи и идеологии, с ним связанные, в этом дискурсивном поле давно исчезли из области актуального. Они ушли в гетеротопию победы над нацизмом или евразийства — чисто риторических миров. Ведь Евразия — это воображаемое пространство риторических встреч и подмен, и ничего более. Таким же гетеротопным мифом является и уже почившая Новороссия.
Интерес нынешней ситуации в том, что этот миф обрел черты реальности в войне, которой Путин, конечно, не хотел, считая, что ему удастся ограничиться очередной фикцией. Но фикция обрела черты реальности. И то, что предполагалось как чисто риторическая конструкция, вместо очертания snak’a стало обретать простой, даже упрощенный смысл.
Происходящее напоминает историю с Еленой Прекрасной у Еврипида. Еврипид говорит, что Гера по просьбе Зевса создала облачный эйдолон — симулякр Елены, который и был украден в Трою. На самом деле Елена спокойно жила в Египте и ногой не ступала на троянскую землю. Вместо нее яблоком раздора был призрак. Елена в одноименной трагедии Еврипида рассказывает о Зевсе, который «Битв наградой / Троянам и ахейцам… назначил / Меня… Меня? О нет! Лишь звук пустой / Носился над войскам». Вся многолетняя кровавая бойня, описанная Гомером, происходит из-за «звука пустого», кьеркегоровского snak’a. Мне кажется, что Елена — совершенно поразительная аллегория того, что происходит. Горгий, которому Платон посвятил одноименный диалог, написал риторический текст, который до нас частично дошел, — «Похвала Елене». Этот текст считается образцом энкомии — иллюстрации силы риторики. Горгий определяет его как эпидейктическую речь, целиком построенную на фигурах. В этой похвале как будто нет никакого содержания, кроме демонстрации фигур.
Фантом возникает из ничего и становится жизнеподобным, убедительным. Горгий демонстрирует, каким образом Елена, которая считалась воплощением порочности, так как изменила мужу и стала причиной кровопролитной войны, может быть представлена образцом верности и добронравия. И эта трансформация укоренена в фигуративности риторики, которая может сделать с действительностью все что угодно.
Ритуал: единство веры и неверия
Механизм общества укоренен не во внятную систему понятий и верований, а в ритуалы. Антрополог Роджер Кизинг пытался понять смысл такого фундаментального для антропологии термина, как «мана», о котором мы знаем от Марселя Мосса (существующее в «примитивных» обществах представление о всепроникающей мистической силе). Он опросил множество людей, принадлежащих к соответствующим культурам, и пришел к выводу, что никто не знает значения этих фундаментальных для данной культуры слов. Смысл подобных неопределенных понятий возникает на пересечении разных дискурсивных регистров. Люди нащупывают смысл этих понятий в разных прагматических ситуациях. И этими ситуациями прощупывания смысла часто оказываются ритуалы.
Ритуал, по Морису Блоху, ослабляет синтаксическую свободу речи, ее формализует. Отсюда большая роль ритма — песнопений, танцев, повторений слов — в ритуалах. Но само ритмическое повторение ведет к иллюзии усиления искомого смысла, который как бы «надувается» формализацией.
В этом контексте интересно взглянуть на растущее место праздников в российском обществе. Мне кажется, что его следует рассматривать как признак болезненной ритуализации, строящейся вокруг смысловой пустоты. Чем более пышно празднуются победы прошлого, тем очевиднее переход в область ритуальной перформативности. Вместо веры в идеи возникает характерная для ритуалов полувера в видимость.
Бельгийский антрополог Пьер Смит писал, что ритуал строится вокруг некоего фокализирующего ядра, окруженного символами. Например, в ритуале евхаристии это ядро — момент, когда вино превращается в кровь. Но при этом, отмечает Смит, никто в действительности не думает, что вино, которое он выпивает, — кровь Христа. Смит рассказывает о разговоре с одним из инициаторов ритуалов сенегальского племени Бедик. Участники ритуала должны вести себя так, как если бы они этому верили. И если один из них проявляет скептицизм или бросает вызов, он должен быть строго наказан. Но если один из них слишком верит и впадает в неистовство, это еще серьезнее и в не меньшей степени разрушает ритуал.
Для культуры ритуального говорения, которой стала Россия, в равной мере неприемлемы как скептики, так и абсолютно верящие в пустые слова фанатики, вроде неонацистов и экстремальных националистов. Ритуал должен все время создавать риторические ходы между верой и неверием. Эта неопределенность позволяет связать в некое единство культуры абсолютную дисперсию элементов, которые не организуются ни в бинарности, ни в смыслы. Это, как мне кажется, должно приниматься во внимание социологией и политологией — двумя дисциплинами, претендующими на понимание социума и обычно плохо с этим справляющимися. Иногда кажется, что эти дисциплины создали фантомы, похожие на Елену Прекрасную Еврипида. Они постоянно говорят о «логике режимов» и «мнении людей», как будто это детерминистические сущности, хотя в действительности это лишь ритуально-риторические неопределенности.
Каждый раз, когда социологи обсуждают вопрос о поддержке населением политики путинского режима, они ставят вопрос, который не имеет решения. В рамках социальных ритуалов и пустого говорения даже тот, кто рисует букву Z на машине или заборе, часто не знает, поддерживает он войну или нет. Когда-то Виктор Тернер ввел понятие «перформативная рефлексивность». Он говорил, что в традиционных обществах, где снижена индивидуальная рефлексия, люди представляют себе самих себя в ритуалах и через них формируют представление о себе. Мы видим, до какой степени нынешняя российская культура умножает театральные представления о собственной триумфальной несокрушимости, по-шамански в режиме перформативной рефлексивности заговаривая скепсис.
В то время как люди тысячами гибнут на фронтах, происходит безудержная театрализация собственного несокрушимого имперского величия. Имперская паранойя тут переходит от производства бесконечных цепочек означающих к окончательной отмене всякой реальности. Буква Z своим зигзагом позволяет на время хрупко соединить псевдоэнтузиазм, усиливающуюся неуверенность в будущем и ужас перед лицом нарастающей безнадежности.
Читайте также
 Нынешний этап идеологической экспансии государства призван, с одной стороны, окончательно исключить и «отменить» либеральную часть российского общества, а с другой — изменить идентичность той его части, которая впитала идейный оппортунизм 2000-х, в свою очередь нивелировавший ценностный багаж и либеральные устремления перестроечной и постперестроечной эпохи.
Нынешний этап идеологической экспансии государства призван, с одной стороны, окончательно исключить и «отменить» либеральную часть российского общества, а с другой — изменить идентичность той его части, которая впитала идейный оппортунизм 2000-х, в свою очередь нивелировавший ценностный багаж и либеральные устремления перестроечной и постперестроечной эпохи.
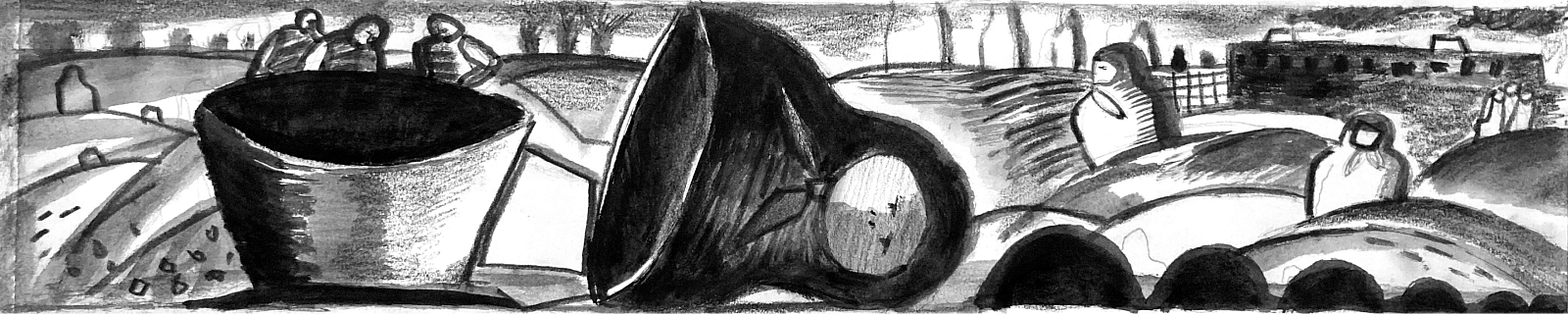 Почему путинизм (еще) не является идеологией
Обычно идеологии создают своего рода карту политики, с помощью которой можно понять, в каком направлении движутся политические процессы, но Путин долго и успешно избегал идеологической определенности, что позволяло ему сохранять политическую интригу вокруг своих ключевых решений. Эта черта режима сохраняется и сегодня: Кремль не может ни объяснить причины и цели войны с Украиной, ни обеспечить идеологическую мобилизацию в ее поддержку.
Почему путинизм (еще) не является идеологией
Обычно идеологии создают своего рода карту политики, с помощью которой можно понять, в каком направлении движутся политические процессы, но Путин долго и успешно избегал идеологической определенности, что позволяло ему сохранять политическую интригу вокруг своих ключевых решений. Эта черта режима сохраняется и сегодня: Кремль не может ни объяснить причины и цели войны с Украиной, ни обеспечить идеологическую мобилизацию в ее поддержку.
 Есть ли у путинского режима идеология?
Идеология путинского режима устойчива, поскольку отвечает на существующий запрос населения, опирается на глубоко укорененную советскую традицию и в то же время заполняет идеологический вакуум, возникший после распада Советского Союза. Она поможет путинскому режиму сохранить жизнеспособность на многие годы.
Есть ли у путинского режима идеология?
Идеология путинского режима устойчива, поскольку отвечает на существующий запрос населения, опирается на глубоко укорененную советскую традицию и в то же время заполняет идеологический вакуум, возникший после распада Советского Союза. Она поможет путинскому режиму сохранить жизнеспособность на многие годы.
