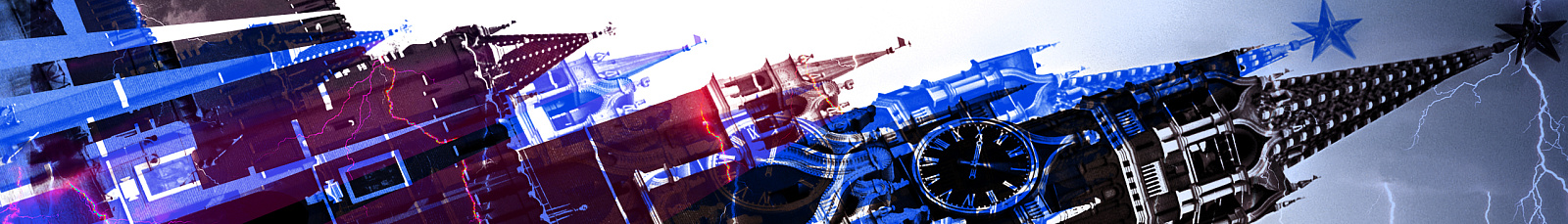
Жизнь после смерти: российское гражданское общество в условиях войны и диктатуры
Бурное развитие гражданского сектора в России в 2010-е годы опиралось на эффекты низовой модернизации и накопленный социальный капитал постсоветских поколений россиян. Начало войны, разрыв отношений с Западом и несколько волн репрессий нанесли мощный удар по этому сектору. Однако не прервали его существования.
Сегодняшняя конфигурация сектора определяется репрессивной общественной атмосферой, с одной стороны, и практическим отсутствием альтернатив государственному финансированию, с другой. Гражданский сектор находится под влиянием двух векторов спроса — спроса на гражданскую лояльность и поддержку официозных нарративов «сверху» и неподавленного спроса на гражданскую активность и солидарность «снизу».
Создаваемые этими векторами инициативы и организации не разделены, однако, железной стеной, но сосуществуют и находятся в сложных отношениях как противостояния, так и вынужденного взаимодействия.
В институциализированной, «белой» зоне российского гражданского сектора тематика активности во многом задается президентским фондом гражданских инициатив. Впрочем, и здесь можно выделить политизированный кластер, связанный с официальными идеологическими приоритетами, и неполитизированный, но зависимый от государственного финансирования и взаимодействия с госструктурами.
Неинституализированную, «серую» зону составляют инициативы, находящиеся на периферии или за границами официально одобряемых повесток. Это, как правило, небольшие проекты с горизонтальной структурой, не привлекающие к себе чрезмерного внимания и работающие в условиях постоянного риска и недостатка финансирования. Стремление остаться «ниже радаров» государства определяет ограниченный масштаб их деятельности и ее ограниченную публичность.
Адаптация к репрессивной среде, в которой публичный протест фактически находится под запретом, определяет трансформацию гражданской модели коллективных действий, когда их адресатом является общество, в патерналистскую, когда их адресатом становятся исключительно власти. Колебание между двумя моделями хорошо просматривается в истории движения родственниц мобилизованных.
Экологический сектор гражданской активности остается крайне конфликтным, в частности в силу того, что, с одной стороны, в условиях автократии экологические инициативы в определенной мере аккумулируют «легитимный» протестный потенциал, а с другой стороны, власти вполне осознают возможности его обратной трансформации в политический протест.
Между патронажем и репрессией: два вектора «спроса» в гражданском секторе
При том, что сегодняшняя Россия в основном соответствует образу классической диктатуры, то есть авторитарного режима с достаточно высоким уровнем репрессивности, российское гражданское общество и сектор гражданского активизма — отнюдь не исчезнувшие явления. Бурное развитие гражданского сектора в 2010-е годы опиралось на эффекты низовой модернизации и накопленный социальный капитал постсоветских поколений россиян. Начало войны, санкции и разрыв отношений с Западом, а также несколько волн предвоенных и в особенности военных репрессий нанесли значительный удар по этому сектору и сетям социальной солидарности. Из России ушли многие западные компании, выступавшие донорами благотворительных организаций, западные НКО прекратили поддержку российского гражданского общества, из-за блокировки SWIFT и PayPal «отвалилась» часть платежей. Кроме того, целый ряд российских НКО прекратил работу после получения статуса «иноагента» или вынужден был перенести свою деятельность за границу, а часть активистов оказались в заключении.
Все это привело к существенной трансформации гражданского сектора, но не к его исчезновению или полному выхолащиванию, как может показаться из-вне. Угроза репрессий и замещение негосударственного финансирования государственным стали главными факторами, определяющими новую конфигурацию сектора, а его политизированный, правозащитный сегмент вынужден был сжаться и «спрятаться».
Обзор Екатерины Калининой и Стевана Ингварссона, основанный на опросах российских гражданских активистов, намечает следующую топографию российского гражданского сектора в новую эпоху: на одном конце спектра находятся инициативы, стимулированные и контролируемые государством и соответствующие его целям и интересам (например — насаждению официозного милитари-патриотизма среди молодежи), на другом — низовые инициативы, которые могут быть как нейтральны в отношении интересов государства, так и враждебны им. Эта последняя зона гражданского сектора имеет во многом деинституализированный характер, опирается на автономные группы и скрытые сети доверия, а иногда взаимодействует с российскими гражданскими инициативами, находящимися вне страны. Однако между двумя полюсами существует также немало переходных форм.
В целом, эта картина похожа на ситуацию в российских медиа, где на одном полюсе находятся релоцировавшаяся за границы страны неподценцезрная и в целом оппозиционная журналистика, а на другом — государственная пропаганда. Между ними располагаются медиа, продолжающие свою деятельность в России в рамках цензурных рамок (то есть не выступающие против войны), но при этом формирующие независимую и негосударственную повестку, а также нишевые профессиональные и региональные издания, которые придерживаются отнюдь не пропагандистских и содержательно высоких стандартов качества, но при этом «не лезут в политику», чтобы сохранить возможность продолжать работу (→ Ксения Лученко: Внутри и снаружи цензуры). В обоих случаях мы имеем дело с двумя векторами спроса — «сверху» и «снизу». В случае гражданского сектора это спрос на гражданскую лояльность и поддержку официозных нарративов (спрос «сверху»), с одной стороны, и спрос на гражданскую активность «снизу», с другой. Создаваемые этими векторами инициативы и организации, однако, не разделены железной стеной, но сосуществуют и находятся в сложных отношениях как противостояния, так и вынужденного взаимодействия.
Белый сектор: официозное и подцензурное гражданское общество
Если говорить об институализированном секторе, находящемся под покровительством или под радарами государства, то здесь можно выделить политизированный кластер, связанный с официальными идеологическими приоритетами, и неполитизированный, но зависимый от государственного финансирования и взаимодействия с госструктурами.
Основной игрок институализированного сектора и его финансисирования — Фонд президентских грантов. По подсчетам Re: Russia, в 2024 году по итогам двух конкурсов фондом было распределено 7,75 млрд рублей на почти 3 тыс. проектов, а по итогам первого, январского конкурса 2025 года — 4,7 млрд рублей на полторы тысячи проектов. В конкурсе одиннадцать тематических направлений, распределение средств между которыми отражает их приоритизацию. Так, 40% всех средств пришлось на два самых крупных направления — «социальное обслуживание и социальная поддержка» (почти 23% всех средств за полтора года) и «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (17%). Три самых “скромных” направления, на каждое из которых приходится всего по 2% от всех средств фонда, — «защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных», «развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников» и «укрепление межнационального и межрелигиозного согласия». На три следующих по размеру — «развитие институтов гражданского общества», «охрана окружающей среды и защита животных» и «поддержка молодежных проектов» - приходится от 3 до 6% средств. Наконец, три среднеразмерных направления (от 10 до 14% средств на каждое) — это «поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» и «сохранение исторической памяти».
Распределение средств Фонда президентских грантов, 2024–2025
Помимо этого 2 млрд рублей должна распределять на поддержку своих проектов и мероприятий возобновленная в 2024 году всероссийская пионерия — «Движение первых», получающая из федерального бюджета 21 млрд рублей в год, сообщали СМИ.
Очевидно, что значительная часть средств президентского фонда достается проектам, непосредственно продвигающим официозные повестки. Однако даже по этим направлениям под зонтиком патронируемых государством тематических направлений (например, «сохранение исторической памяти») могут прятаться вполне содержательные инициативы, которые отнюдь не являются пропагандистскими. Тоже самое касается направления «социальная поддержка», где социальная благотворительность перемешана с проектами, направленными на помощь участникам боевых действий в Украине. Подсчеты проекта «Говорит НеМосква», изучившего около 400 связанных с войной и ее последствиями инициатив, показывают, что большинство из них ориентированы на оказание услуг, которые являются по сути обязательством государства (адаптация тяжело раненых и инвалидов и психологическая помощь). Почти половина проектов направлены на помощь беженцам с разоренных войной оккупированных территорий (российские власти поощряют переезд граждан с этих территорий вглубь России, этот поток в 2023 году составил около 100 тыс. человек → Re: Russia: Миграционно-оккупационный баланс). Только 2% проектов, по подсчетам «НеМосквы», ориентированы непосредственно на помощь фронту.
Ситуация в институализированном, «подцензурном» сегменте российских НКО резко ухудшилась в 2022 году, после начала войны. По данным мониторинга «Пульс НКО», отслеживающего ситуацию в этом сегменте, в 2022 году 52% организаций заявили о сокращении финансирования и 42% — о сокращении рекуррентных доноров. Однако в следующие два года, по данным опросов «Пульса», доля проектов, у которых увеличивалось финансирование, росла (с 30 до 40%), причем как в сегменте государственных средств, так и поступлений от частных лиц и коммерческих компаний.
Как показывают данные 18-й волны мониторинга Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ, средства Фонда президентских грантов и субсидии региональных властей получали 37% организаций, а основными источниками финансирования их считают 26 и 21%, соответственно. Пожертвования частных лиц получали 38% организаций, но только для 15% они является основным ресурсом. Средства от российских коммерческих компаний использовали лишь около четверти организаций, и только для 10% они были основными. Слабое участие коммерческого сектора в финансировании гражданского определяет то, что после ухода внешних доноров последний почти автоматически становится государственным.
В серой зоне: невидимость и выгорание
Однако грань между контролируемым государством и получающим его финансирование сегментом и следующим, «серым» сектором, находящемся на периферии или за границами официально одобряемых повесток — в значительной степени размыта. Эксперты Центра Ханны Арендт отмечают, что даже многие антивоенно-настроенные НКО оказываются вынуждены соревноваться за государственное финансирование и включать поддерживающие войну мероприятия или риторику в свои грантовые заявки, чтобы обеспечить функционирование инициатив, никак с официозом не связанных или даже ему противопоставленных. По оценкам авторов посвященного экоактивизму выпуска Russian Analytical Digest, лишь 3 из 10 опрошенных ими экологических проектов не прибегали к помощи властей или ГОНГО.
Чтобы создать актуальный портрет российского гражданского сектора исследователи Центра Ханны Арендт провели 115 интервью с представителями различных инициатив, исследовали 12 онлайн-сообществ методом цифровой этнографии и сделали количественный анализ контента более чем 10 000 сообществ в VK и Telegram (исследование еще не закончено). Этот анализ показывает, что в виду репрессивной атмосферы и высоких рисков проекты «серой зоны» — связанные с идеологически не вписывающимися в официальную повестку темами — стараются быть менее заметными, не привлекать к себе лишнего внимания, ограничивают свои публичные коммуникации, не демонстрируют свои результаты в соцсетях и тем более в крупных СМИ, а работают непосредственно с местными сообществами в своих нишах. Они состоят из небольших команд и вынуждены реже рекрутировать волонтеров, потому что процесс верификации новых сотрудников слишком трудозатратен, а потенциальные риски велики. Чтобы снизить риски, подобные проекты стремятся делать упор на горизонтальные структуры управления, распределяя обязанности и ответственность.
Такие стратегии, впрочем, несут с собой существенные издержки. Снижение видимости приводит к тому, что у инициатив остается меньше возможностей для фандрайзинга, а также кооперации и обмена опытом. Особенно остро в условиях высокого уровня опасности и неопределенности, а также «невидимости» результатов работы и отсутствия социального признания, встает проблема «выгорания» сотрудников.
Опрос фонда KARTU, созданного бывшими сотрудниками фонда «Нужна помощь», проводился на малой выборке 46 организаций, прошедших обучение в фонде и занимающихся в основном темами, находящимися вне зоны государственной поддержки — антивоенный активизм, защита прав женщин и ЛГБТ+, помощь политическим заключенным, продвижение «открытого» государства. Несмотря на малую выборку опрос дает портрет типичных низовых, независимых инициатив «серой зоны». Это достаточно небольшие волонтерские проекты, трети четверти из которых не имеют официальной регистрации. Около 60% имеют не более 5 постоянных сотрудников и до 20 постоянных волонтеров, только 13% имеют более 20 постоянных сотрудников. В 2023 году около 40% из них привлекли всего до 500 тыс. рублей, еще 30% — от полумиллиона до миллиона, и оставшиеся — более миллиона.
Среди источников финансирования две трети организаций назвали частные средства физических лиц, не являющихся членами команды, 40% указали личные средства участников и столько же — гранты от других НКО и фондов, а 30% упомянули поступления от зарубежных доноров. Государственные гранты и субсидии назвал лишь каждый десятый и столько же (10%) сказали, что имеют какие-то рабочие взаимоотношения с органами власти (региональными, федеральными или местными). Среди форм деятельности 80% указали привлечение внимание к профильным социальным проблемам, половина — публичные заявления, выступления в социальных сетях и подписание петиций и коллективных писем, треть — подписание петиций и обращений к органам власти, 15% — проведение публичных акций. Около 60% сообщили о тех или иных случаях давления со стороны государства, с которыми им пришлось столкнуться.
Патерналистская модель против гражданской
Можно выделить несколько различных стратегий адаптации гражданского активизма в условиях репрессивной среды и фактического запрета любых форм публичного протеста. Гражданские организации «серой зоны» осознают, что идеологически государство по меньшей мере не сочувствует их деятельности, а иногда и активно вражебно им. Они стараются действовать в рамках допустимого или скрытно, осознавая риски своей деятельности. Стремление остаться «ниже радаров» государства определяет ограниченный масштаб их деятельности и ее ограниченную публичность.
Другой защитной реакцией на государственное давление является переход от гражданской модели коллективных действий к патерналистской. В этой модели основной стратегией коллаборации активистов становятся коллективные обращения к начальству и поиск путей лоббирования в коридорах власти соответствующей повестки, а ее необходимым условием является подчеркнутая лояльность ключевым официозным идеологическим нарративам. Колебания между двумя стратегиями — гражданского и патерналистского активизма — хорошо заметна в истории движения родственниц принудительно мобилизованных.
Кооперация матерей и жен мобилизованных началась почти сразу после проведения частичной мобилизации в сентябре–октябре 2022 года. На первых порах они выступали за обеспечение мобилизованных амуницией, организацию их военной подготовки перед отправкой на фронт и создание для них нормальных бытовых условий. Эта активность была подчеркнуто лояльной в отношении самого факта войны и объявленной по этому случаю мобилизации, но требовала повышения «государственного стандарта» в отношении к мобилизованным и к проведению «СВО». По этой причине их повестка на определенном этапе пересекалась с пригожинскими нарративами, адресуя руководству Минобороны и местным властям упреки в недостаточно ответственном подходе к обеспечению «победы».
При приближении годового срока мобилизации активизм родственниц сфокусировался на требовании ротации мобилизованных. При этом в движении отчетливо обозначились две стратегии. Первая, лоялистская делала ставку на обращения в государственные органы и лоббирование ротации в Думе и подчеркнуто дистанцировалась от форм публичного протеста и той поддержки, которую выражали движению оппозиционные, демократические блогеры и СМИ. В основе этой стратегии лежала идея, что в ответ на их лояльность «патриотическому долгу» власти должны продемонстрировать в отношении мобилизованных «справедливость», равномерно распределив бремя войны между российскими гражданами. Вторая, гражданская стратегия делала ставку на привлечение внимания не властей, а общества к «несправедливости» в отношении мобилизованных, более или менее явно распространяя эту инвективу на сам факт войны как ненужной и не стоящей приносимых жертв (→ Re: Russia: АнтиVоенный патриотиZm; о разных стратегиях родственниц мобилизованных в борьбе за своих близких подробно рассказывается в исследовании Лаборатории публичной социологии).
Патерналистская модель солидарности получила широкое распространение после начала войны и усиления репрессивности режима: коллективные обращения к губернаторам, военному руководству или президенту записывали мобилизованные, жители Орска, пострадавшие от наводнения, жители Белгородской области, пострадавшие от обстрелов, и беженцы в Курской области, оставившие свои дома после вторжения украинских сил. Такая форма гражданской активности позволяет властям выборочно реагировать на подобные обращения, учитывая, в частности, то, какой общественный резонанс они получают.
С одной стороны, подобные формы солидарности можно отнести к категории «оружия слабых», с другой, нередки примеры, когда они трансформируются в гражданские инициативы, если их адресатом в результате отсутствия реакции властей вновь становится общество.
Экология как зона конфликта и субститут «политического»
Наконец, еще одна зона гражданского активизма, которая может быть обозначена как зона противостояния, где взаимоотношения государства и независимых инициатив приобретают достаточно драматические формы, — это экология. С одной стороны, даже в авторитарной среде экологические претензии оказываются, с точки зрения лояльных граждан, вполне легитимными, поскольку не являются «политическими». Как показывают опросы, спрос на экологическую повестку в условиях подавления политических и правозащитных активностей повысился (в 2024 году ухудшение состояния окружающей среды как предмет своего беспокойства отметили 45% опрошенных, хотя в 2010-е годы в уровень экологического беспокойства достаточно устойчиво находился возле рубежа 30%, показывают опросы «Левада-центра»). С другой стороны, с точки зрения властей, экологические претензии обладают значительным потенциалом гражданской и протестной солидарности, а потому вызывают значительное беспокойство. Трансформация экологических протестов в политические — вполне модельная история (классическим примером являются протесты в Стамбуле в 2013 году), а российские власти хорошо помнят опыт широких экологических противостояний, вроде «битвы» за Химкинский лес или кампании против мусорного полигона в Шиесе.
Динамика активности в экологической нише наглядно иллюстрирует процессы сосуществования и борьбы «спроса сверху» и «спроса снизу» в гражданском секторе. После катастрофы двух нефтяных танкеров в Керченском проливе множество волонтеров из разных частей страны устремились на черноморское побережье под Анапой для сбора мазута и спасения птиц. Это низовое волонтерское движение прямо наследует практикам 2010-х годов (таким как борьба с лесными пожарами и кампании помощи пострадавшим от стихийных бедствий). Власти по крайней мере толерантно отнеслись к этой инициативе, хотя и оказывают давление в отношении медийной активности волонтеров, которые в основном принимают эти правила игры, отмечают корреспонденты экологического издания «Кедр».
В то же время институциональные формы экоактивизма давно находятся под сильным прессингом государства. Задолго до войны власти начали борьбу за выдавливание крупных иностранных экологических организаций (таких как Greenpeace, WWF, «Беллона») и их российских партнеров. По подсчетам авторов экологического выпуска Russian Analytical Digest, с 2014 по 2021 год 35 экологических групп, организаций и активистов были признаны «иностранными агентами» и одна — «нежелательной организацией». За три года войны к ним добавились еще 10 «иноагентов» и пять «нежелательных организаций».
Еще более драматично разворачиваются события, когда экологические инициативы приобретают форму противостояния с местными властями. По подсчетам Эко-кризисной группы, ведущей мониторинг репрессивного давления в экологической сфере, в 2022 году зафиксированы более 300 эпизодов давления на экоактивистов, в 2023-м — 156, а в 2024-м — 95. За три года против них было возбуждено 31 уголовное дело, по 20 из которых уже вынесены приговоры (12 предполагают реальные сроки заключения, самый крупный из которых — 9 лет тюрьмы). На экоактивистов за три года было совершено 79 нападений с применением физического насилия, 16 человек подвергались административным арестам, а по административным делам активистам назначено более 3 млн рублей штрафов.
Давление на независимых экоактивистов соседствует с усилиями по созданию лояльного экологического сектора. В феврале 2025 года Владимир Путин подписал указ о создании Фонда экологических и природоохранных проектов, который должен стать едиными оператором средст для гражданских инициатив на экологическом направлении, распределяя на эти цели 1 млрд рублей в год (в президентском фонде в 2024 году на экологию пришлось всего 310 млн. рублей, а в первой половине 2025-го — 240 млн.). Это уже вторая попытка создать зонтичную организацию, продвигающую повестки «экологического патриотизма» (первым стал фонд «Компас», созданный за год до этого), отмечается в обзоре издания «Кедр».
В то время как политический протест и правозащита выглядят слишком опасными, экологическая повестка и дальше будет оставаться своего рода их «легитимным» субститутом, аккумулируя подавленный спрос на гражданскую солидарность и протестный потенциал. Эти потребности врядли могут быть «закрыты» с помощью высадки деревьев и проведения субботников в рамках «патриотического экоактивизма», скорее повлиять на них способны репрессивные стратегии, и снижение количества эпизодов давления на экоактивистов за последние два года в статистике Эко-кризисной группы, вероятно, указывает на успех репрессий в ограничении независимой экоактивности, а не на снижение репрессивности.