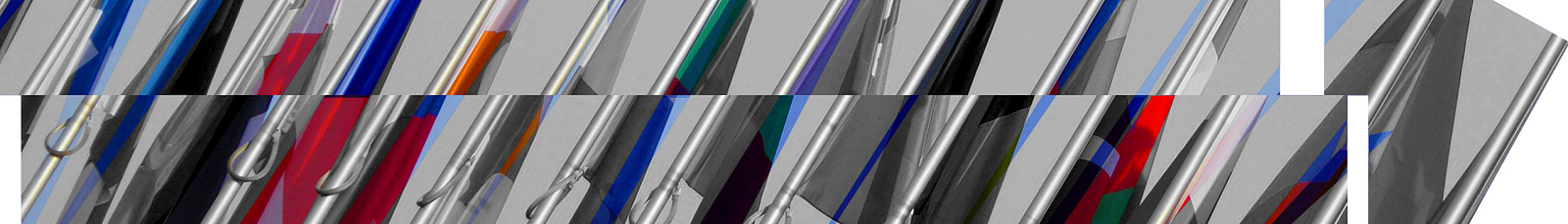
Заезженная пластинка: переговорные стратегии Трампа и раньше приносили не много удач, а теперь воспринимаются контрагентами как знакомый сценарий с хорошо известными уязвимостями
В подходе к украинскому вопросу Трамп копирует стратегии, использованные им при подготовке вывода американских войск из Афганистана. Однако прямые переговоры с талибами за спиной поддерживаемого США правительства страны окончились для последнего полным коллапсом, а для американских сил — хаотическим бегством. В то же время в переговорах с Путиным, с которым он надеется заключить «большую сделку», Трамп копирует свои подходы к переговорам с Ким Чен Ыном в 2018–2019 годах, в которых он не добился результата.
Трамп позиционирует себя как суперпереговорщика и мастера «сделок». Его стратегии включают непомерные запросы на начальном этапе, создание искусственного цейтнота в их ходе, дискредитацию собственных союзников и попытки добиться прорыва при личном общении с контрагентом, минуя посредников.
Трамп переносит практики жестких бизнес-переговоров в сферу международных отношений, и таким образом взрывает их обычный антураж и общепринятые правила. И хотя фактические результаты его громких инициатив либо скромны, либо плачевны, Трампу нередко удается придать этим результатам ореол успешности.
Тактика силовых бизнес-переговоров рассматривает их как одноразовые сделки в рамках игры с нулевой суммой. Перенесение этих стратегий в сферу международных отношений ведет к подрыву долгосрочного доверия, даже если «сделка» принесла успех: как правило, он краткосрочный и незначительный. Трамп разрушает старые союзы, но не создает новых.
Наконец, еще одной проблемой является то, что набор приемов Трампа остается неизменным и уже хорошо знаком его контрагентам, которые успешно пользуются их слабыми местами.
В то же время стремление Трампа заключить «большую сделку», которая принесет ему Нобелевскую премию, по мере повторяющихся неудач все более превращается в манию — как и его уверенность, что главным препятствием на этом пути являются его внешние союзники, с мнением которых он не желает считаться, и внутренние оппоненты, преимущество над которыми он стремится утвердить.
Заезженная пластинка
Дональд Трамп видит себя великим переговорщиком и мастером сделок. Его книга 1987 года «Искусство сделки» считается чуть ли не обязательным чтением для тех, кто хочет преуспеть в переговорном ремесле. Трамповский жесткий стиль ведения бизнес-переговоров сам по себе не нов, но то обстоятельство, что ярый адепт этого стиля уже во второй раз становится президентом США и пытается перенести его техники в практику международных отношений, фактически превращает этот стиль из подсобного инструментария в новую идеологию.
Профессор Школы менеджмента Массачусетского технологического института Томас Кочан в статье для Negotiation Journal выделяет пять основных черт Трампа как переговорщика: он 1) ведет переговоры сквозь «распределительную призму» («выиграл — проиграл») и рассматривает собственную позицию как доминантную, 2) стремится к личному удовлетворению и признанию, что делает его уязвимым перед лестью и готовым к размену уступок на знаки почтения, 3) рассматривает свои «сделки» как одноразовые, что препятствует установлению длительных отношений и доверия, 4) склонен к личным нападкам и оскорблениям в адрес тех, кто противодействует ему, 5) у него слабые барьеры для вступления в отношения с партнерами, имеющими дурную репутацию и низкие этические стандарты.
Основной стратегией Трампа на переговорах является использование давления и силы — тактика, к которой он начал прибегать еще в те дни, когда был застройщиком в Нью-Йорке, пишет в другой статье, посвященной этому вопросу, Джим Шлексер, генеральный директор консалтинговой компании The CEO Project. Еще одна особенность переговорного стиля Трампа — склонность к преувеличению, которое в своей книге он именует «правдивой гиперболой». Как только поставщики выделяли ему материалы для строительства, Трамп начинал шантажировать их, угрожая найти гораздо более дешевые аналоги, которых в действительности не существовало в природе.
Трамп начинает переговоры с непомерного запроса. Этот прием часто называют якорением. Он выдвигает заведомо невыполнимые требования и делает политические заявления, которые выглядят дико, вроде желания присоединить Канаду или оккупировать Гренландию. Такой ход позволяет сразу сдвинуть в свою пользу пространство переговоров и принуждает контрагентов к «работе над уступками» еще до их начала. Следующим приемом является «искусственный цейтнот». Создавая ощущение нехватки времени, Трамп заставляет другую сторону действовать быстро и идти на уступки под угрозой развала сделки, пишут авторы блога об искусстве переговоров. Во время переговоров с Южной Кореей о пересмотре соглашения о свободной торговле в 2018 году он неоднократно угрожал их односторонним прекращением, что в итоге помогло ему добиться от Сеула некоторых уступок, пишет Шлексер.
Наконец, Трамп широко использует прием «стратегической непредсказуемости», которая также является средством давления и доминирования. Еще одна важная часть переговорного стиля Трампа — стремление к публичности. В нарушение дипломатических норм американский президент нередко вел в Twitter трансляции с переговоров, называя это частью переговорной стратегии. Как правило, такая публичность использовалась для дискредитации контрагентов по переговорам.
Выхлоп на недоверии
Весь этот набор стандартных для Трампа приемов испытали на себе в течение последнего месяца президент Зеленский и другие переговорщики с украинской стороны. Трамп умудрялся называть президента Украины диктатором и обманщиком и «забывать» о своих словах буквально за два дня. Трамп бесконечно торопит украинскую сторону под предлогом стремления к скорейшему прекращению огня, которое, понятное дело, находится отнюдь не во власти Зеленского. И, наконец, он преднамеренно громко говорит о разногласиях сторон, настраивая американское общественное мнение против украинского президента (→ Кирилл Рогов: Игра без козырей).
Переговорная стратегия Трампа иногда приносит успех, в особенности если контрагент находится в уязвимом положении и не склонен к конфронтации. Впрочем, и этот успех может быть нивелирован. Если «победа» Трампа в сделке признана и его эго удовлетворено, контрагент, признав себя проигравшим, может в значительной степени отыграть уступки и нанесенный ими урон. Так, на прошлом сроке Трамп добился пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), которое он многократно называл «худшей» сделкой, и заменил его Соглашением между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA). Несмотря на шумный политический ребрендинг, аналитики отмечают, что новое соглашение не так сильно отличается от старого, а его новые элементы имеют не столь большое значение или были проработаны в рамках предшествовавших «сделке» тихих переговоров. Ровно к тем же выводам приводит подробный анализ заключенного Трампом нового торгового соглашения с Южной Кореей: по сути оно не так сильно отличается от старого. Таким образом, «сделки» Трампа часто выглядят чем-то поистине революционным, глобальным и даже немыслимым на начальном этапе (этапе якорения), окружены атмосферой скандала и борьбы, в которой Трамп должен выйти победителем, но на деле оказываются небольшим продвижением по трудной дороге или просто «выхлопом» и пустышкой. Хорошим примером такого рода является, в частности, подготовленное к подписанию соглашение по недрам с Украиной (→ Re: Russia: Кабала, химера или план Маршалла?).
Основатель заметной консалтинговой компании Мартин Латц утверждает в комментарии для Politico, что, хотя Трамп и сделал карьеру, продвигая себя как успешного переговорщика, это представление довольно далеко от действительности. Успешного переговорщика отличает не только напористость, но и способность уверенно излагать позицию на основе всестороннего знания проблемы. В случае же Трампа именно неподготовленность, некомпетентность, спонтанные импульсивные действия, использование угроз и оскорблений, а также отношение к сделке как к игре с нулевой суммой нередко заводят переговоры в тупик, утверждает Латц.
Долгосрочные последствия этой тактики выглядят сугубо негативными. Агрессивная манера Трампа подрывает отношения с союзниками и сложившиеся альянсы, не позволяет достичь компромиссов в важных переговорах, приводит к ненужной эскалации, отмечает Шлексер. Перенесение в международные отношения бизнес-практики, рассматривающей каждую сделку как изолированное, одноразовое событие, больше похожее на кулачный бой, вредит тем, что подрывает долгосрочное доверие, которое нарабатывается десятилетиями. Поэтому сделки Трампа разрушают старые союзы и не создают новых.
Соглашения первой фазы
Помимо «сделки с Китаем», которую даже администрация Трампа считала неудачей и потому назвала соглашением «первой фазы», стоит присмотреться к опыту трех переговорных марафонов Трампа — так называемым Авраамовым соглашениям, переговорам с Ким Чен Ыном и сделке с талибами.
Крупнейший внешнеполитический успех первого срока Трампа — заключение в 2020–2021 годах Авраамовых соглашений, которые призваны были обеспечить нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. Соглашения, к которым присоединились ОАЭ, Бахрейн, а позднее — Марокко и Судан, выросли из очередной мечты Трампа о «сделке века». Работу над сделкой вел зять Трампа Джаред Кушнер, изначальный план которого предполагал аннексию Израилем около 30% территорий на Западном берегу, где проживали еврейские поселенцы, и создание на оставшейся части демилитаризованного государства. Палестинская администрация отказалась вести переговоры на этих условиях, после чего премьер Израиля Нетаньяху заявил о намерении аннексировать обозначенные в плане территории. Чтобы предотвратить аннексию, ОАЭ и Бахрейн заявили о готовности нормализовать отношения с Израилем.
Профессор Университета Бен-Гуриона Фред Лазин отмечает, что Авраамовы соглашения состоялись в результате стечения ряда важных обстоятельств: Трамп и Нетаньяху готовились к переизбранию и стремились получить крупный международный успех, для шейха ОАЭ Мухаммеда бин Заида было важно укрепить ближневосточный суннитский альянс против Ирана, заслужить лавры «спасителя палестинцев» от аннексии, а также получить от США одобрение на закупку истребителей F-35. Соглашения стали многообещающим шагом, но отнюдь не переломом в деле урегулирования на Ближнем Востоке, показала террористическая атака 7 октября 2023 года и все последовавшие события. На паузу были поставлены намерения других арабских стран (прежде всего Саудовской Аравии) присоединиться к соглашениям, а в арабских странах, в том числе в подписавших соглашение, оно остается крайне непопулярным.
В известном смысле этот дипломатический прорыв также оказался соглашением «первой фазы», за которой следует тупик. Тактика «выкручивания рук» приводит к результату, который оказывается декларативным и обратимым.
Ядерное фиаско
Переговоры с Ким Чен Ыном (так же как переговоры с талибами позднее) стали ярким примером полного фиаско переговорных стратегий Трампа. Два лидера провели три встречи, однако президенту США так и не удалось уговорить Пхеньян отказаться от ядерной программы или как-то ограничить ее масштабы.
Изначально Трамп занял максимально конфронтационную линию в отношении КНДР, грозя Ким Чен Ыну «огнем и яростью, которых мир никогда не видел». Однако заякорить эти угрозы Трампу не удалось. Эскалация напряжения между странами достигла апогея осенью 2017 года, когда Ким Чен Ын был сфотографирован изучающим планы ядерного удара с главой своих стратегических сил. Как пишет в комментарии для Wilson Center редактор журнала China and Global Affairs Кэти Сталлард, на тот момент война между Вашингтоном и Пхеньяном выглядела настолько возможной, что тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис спал в одежде, чтобы быть готовым отдать приказ сбить приближающуюся северокорейскую ракету.
Однако вскоре Ким Чен Ын внезапно взял курс на разрядку: он заявил, что ядерные силы страны созданы и полностью готовы к отражению удара, отправил собственную сестру на зимние Олимпийские игры в Южную Корею и пригласил Трампа встретиться с ним «как можно скорее», намекая, что готов к частичной денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности и снятие санкций с КНДР. Трампу показалось в этот момент крайне заманчивым заключить с Пхеньяном «большую сделку», сняв с него все санкции в обмен на отказ от военной ядерной программы. После первого саммита в Сингапуре в июне 2018 года стороны ограничились общими декларациями, но Трамп позиционировал переговоры как значительный успех, восхвалял корейского лидера и утверждал, что ядерная угроза со стороны Северной Кореи миновала.
Второй саммит в Ханое в июне 2019 года закончился скандалом: Ким был готов говорить лишь о незначительных уступках в развитии ядерных сил, и переговоры были прерваны досрочно, а накрытый для торжественного обеда стол остался нетронутым. Посланник США в КНДР в 1990-е годы Роберт Галлуччи отмечает в беседе с Los Angeles Times, что переговоры в таком формате изначально имели мало шансов: «Вы не начинаете с саммитов, вы заканчиваете саммитом и убеждаетесь, что вся подготовительная работа сделана, а затем два больших парня собираются вместе и что-то подписывают». Ставка Трампа на прямой контакт и привлекательность «большой сделки», которая открывала перед Северной Кореей, страдавшей от жестких секторальных санкций США, значительные экономические выгоды, полностью провалилась.
После неудачи в Ханое Трамп отказался от идеи «большой сделки» и попытался перейти к более традиционной тактике малых шагов, вспоминает в журнале Time американский дипломат Кристофер Хилл, который в 2005–2009 годах являлся посланником США на переговорах по денуклеаризации Северной Кореи. В 2019 году Трамп стал первым президентом США, который посетил КНДР и демилитаризованную зону, но прорыва на переговорах это не принесло. Как отмечает Хилл, в результате дипломатического марафона Трампа Северная Корея лишь воздержалась от ядерных испытаний и испытаний ракет большой дальности, освободила нескольких американских заключенных, а также согласилась возобновить поиски останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны. Трампу, однако, это не мешало называть переговоры с КНДР своим внешнеполитическим триумфом и намекать на то, что он заслужил Нобелевскую премию мира, пишет Хилл.
Фактически Киму удалось водить Трампа за нос более двух лет и полностью нейтрализовать его первоначальную решимость. История этих переговоров демонстрирует слабость традиционной тактики Трампа в условиях, когда он сталкивается со стратегическими долгосрочными интересами контрагента и его готовностью к реальной эскалации в ответ на собственные «гиперболические» словесные эскапады. Посулы Трампа и его вера в личный контакт оказываются бесполезны, а словесные угрозы недостаточны в ситуации, когда у контрагента имеется ядерный арсенал, пусть даже в сотни раз меньший, чем у Владимира Путина. Между тем уступки и обещания, с которых Трамп начал свои отношения с Кремлем в новом президентском сроке, разительно напоминают тактики промежуточного этапа его взаимоотношений с Кимом. Точно также Трамп обещает снятие санкций и феерическое экономическое сотрудничество в будущем, уповая на невероятный прорыв во время личной встречи.
Афганский капкан
Если история несостоявшейся сделки с Кимом выглядит проекцией тактики Трампа на переговорах с Кремлем, то история его другого провала имеет непосредственное отношение к его переговорам с Украиной. В подходе к украинскому вопросу Трамп воспроизводит логику и тактику плана прекращения войны в Афганистане в 2020 году, утверждают в комментарии для The Globe and Mail бывший мэр Кабула Шоаиб Рахим и руководитель Центра европейских и евразийских исследований в Университете Торонто Эдвард Шатц. Подписанное в Дохе соглашение с талибами предусматривало вывод американских войск в течение 14 месяцев, взамен Талибан обещал не допустить появления террористических группировок в Афганистане и согласился начать переговоры с правительством страны, которое поддерживали США.
К моменту прихода Трампа в Белый дом в 2017 году война в Афганистане, подобно войне в Украине, зашла в тупик. Правительство было не в состоянии установить контроль над всей территорией страны, а Талибан не мог вернуться к власти, пишет в материале для Би-би-си Филипп Кроули, бывший помощник госсекретаря США. Через год Трамп начал возмущаться отсутствием прогресса в Афганистане и заявил, что США должны «убраться» оттуда. Госсекретарь США Майк Помпео, уловив настроение Трампа, распорядился начать тайные переговоры с Талибаном.
Администрация Трампа вела переговоры напрямую с талибами, игнорируя официальный Кабул, а союзники по НАТО и даже американские военные узнавали об их ходе задним числом. Главным требованием Трампа был безопасный вывод американских войск, тогда как требование прекращения огня между Талибаном и правительством Афганистана в ходе переговоров было понижено до необязательного обещания «сократить насилие», а требование политического урегулирования — до обещания начать переговоры, пишут Рахим и Шатц. Текст соглашения в том виде, в котором он был написан, читался как график капитуляции, пишет в комментарии для Института Брукингса эксперт по Афганистану Мадиха Афзал.
Одновременно Трамп стремился дискредитировать всех, кто, по его мнению, стоял на пути сделки, прежде всего — проамериканское правительство Афганистана. Под его давлением президент Ашраф Гани вынужден был отправить на переговоры с Талибаном мирную делегацию и безоговорочно освободить 5000 заключенных талибов, а Афганская национальная армия — занять оборонительную позицию после запрета вступать в бой с войсками Талибана. Все это очень скоро обернулось коллапсом правительственных сил и спешной эвакуацией остатков американских войск.
Точно также сегодня Трамп ведет переговоры с Путиным за спиной украинских властей и союзников по НАТО, точно также именно в украинском правительстве он видит основное препятствие к «сделке», публично дискредитирует его и принуждает к «перемирию», которого не ищет и не обещает противная сторона.
В отличие от первого срока сегодня стратегии Трампа и их уязвимости хорошо известны всем, с кем он имеет дело. Контрагенты вынесли уроки из его провалов, в то время как нынешние стратегии Трампа почти в точности копируют его прежние подходы. Его стремление заключить «большую сделку», которая принесет ему Нобелевскую премию, по мере повторяющихся неудач все более превращается в манию — как и уверенность, что главным препятствием на этом пути являются его внешние союзники, с мнением которых Трамп не желает считаться, и внутренние оппоненты, преимущество над которыми он стремится утвердить.