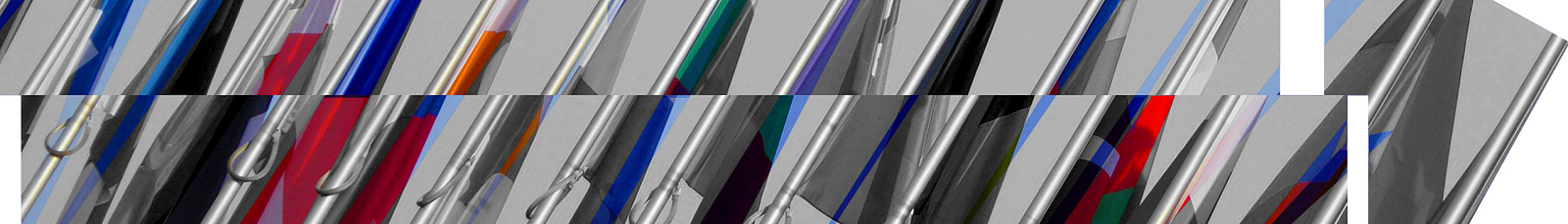
Несбывшаяся мечта: как и почему грузинская политика развернулась от демобилизации к мобилизации
В течение месяца протесты грузинской оппозиции выглядели вялыми и бесперспективными. Этому способствовало, во-первых, то, что претензии оппозиции к выборам указывали скорее на их манипулятивный характер, чем на прямую фальсификацию результатов.
Во-вторых, за последние полтора года правящей «Грузинской мечте» удалось существенно изменить публичную повестку в стране, усилив внутренние общественные расколы по ряду направлений и мобилизовав в свою поддержку более консервативные слои грузинского общества.
Относительно низкое доверие в обществе к обеим противостоящим сторонам — правящей партии и оппозиции — способствовало демобилизации общества и открывало возможности для проведения успешных манипулятивных выборов.
Однако заявление главы правительства Грузии Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении в ЕС резко развернуло динамику протестного ралли. Оно не просто активизировало протест, но придало ему новую повестку и новую легитимность. Ответное насилие со стороны полиции способно еще более усилить в обществе сочувствие к протестующим.
Самым опасным для правящей партии индикатором изменившейся политической динамики стали признаки раскола в элитах и системе государственного управления. Заявление президента Грузии, что она не оставит свой пост до выборов легитимного парламента, отставки послов и функционеров МИДа, коллективные заявления представителей государственных структур и ведомств превращают уличные протесты во фронтальное противостояние и ставят вопрос о том, удастся ли правящей партии сохранить контроль над государственной машиной и достаточную лояльность силовых органов.
Динамика протестных ралли остается слабо прогнозируемой. Развитие событий будет в первую очередь зависеть от того, удастся ли протестующим сохранить накал в течение рабочей недели и подготовиться к новой протестной кульминации в следующие выходные. А также от того, насколько правящей партии удастся организовать альтернативные массовые выступления в свою поддержку.
Манипулятивные выборы и механика демобилизации
События в Грузии развиваются по сценарию украинского Майдана, точнее, сразу обоих Майданов. В 2004 году поводом для массовых протестов в Киеве было недоверие оппозиции официально объявленным результатам выборов, в 2014-м их причиной стал отказ президента Януковича подписывать соглашение об ассоциации с ЕС под давлением президента Путина.
Нынешние грузинские протесты также начались с заявлений о фальсификации результатов выборов. Однако утверждения оппозиции о том, что эти результаты полностью нелегитимны, не выглядели достаточно убедительными, чтобы стать триггером отмены результатов голосования и крушения режима, даже несмотря на поддержку этой оценки со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили, заявившей о непризнании их итогов 27 октября (на следующий день после голосования), и группы членов парламентов европейских стран.
Заявление Зурабишвили не стало сигналом к по-настоящему массовым протестам. Активизировать протестное ралли оппозиция попробовала 17 ноября, после подписания избиркомом окончательного протокола, утверждающего итоги голосования. Однако акции оставались недостаточно массовыми и в течение недели заметно выдохлись. Полиции даже не пришлось применять силу в отношении демонстрантов. 28 ноября Atlantic Council опубликовал комментарий под названием «Почему демократические протесты в Грузии потерпели поражение» — на тот момент эта формула казалась полностью адекватной.
Такое развитие событий — неудача оппозиции в мобилизации протестной кампании по итогам выборов — выглядело ожидаемым. Во-первых, достоверные претензии оппозиции указывали скорее на манипуляции со стороны властей в ходе выборов, нежели на прямую фальсификацию их итогов. А отношение к первым в странах неполноценной демократии является гораздо более терпимым, чем ко вторым.
Во-вторых, правящая уже двенадцать лет партия «Грузинская мечта» за последние полтора года смогла существенно трансформировать публичную повестку в стране, сместив внимание общества с внешнеполитического выбора между «Европой или Россией» на внутренние социально-политические дебаты и вопросы, которые находят сегодня все более широкий отклик среди избирателей в странах постсоветского пространства и связаны с традиционализмом, ксенофобией и евроскептицизмом. Принятые в Грузии, несмотря на масштабные протесты, законы, написанные по российскому дискриминационному лекалу (об «иностранных агентах» и ЛГБТК+- «пропаганде»), иллюстрируют этот успех. В результате «Грузинской мечте» удалось за последние полтора года мобилизовать в поддержку своей повестки более консервативные слои общества, а также убедить медианного избирателя, что ее нахождение у власти является своего рода гарантией от угрозы российского вторжения (→ Re: Russia: Спорное подбрюшье).
Скепсис в отношении перспектив протестной мобилизации связан также с тем, что грузинская оппозиция остается фрагментированной, организационно слабой и страдает от отсутствия ярких лидеров национального масштаба. Набравшей (по официальным данным) на октябрьских выборах 54% голосов «Грузинской мечте» противостояли полтора десятка малых и средних партий, получивших от 1 до 11% (избирательный порог преодолели четыре партии с совокупными 38%). Падение доверия к «Грузинской мечте» в последние годы происходило даже меньшими темпами, чем снижение доверия к оппозиции, а по данным «Кавказского барометра» за 2024 год, 60% опрошенных жителей Грузии заявили, что не доверяют ни той, ни другой стороне. Низкая степень доверия к политическим партиям и президенту также ослабляла мобилизационный потенциал. По данным того же опроса, доверяют президенту Грузии 26%, а не доверяют — 39%, в отношении политических партий соотношение доверия / недоверия составляет 12% против 46%.
Исследование политолога Коула Харви из Университета Оклахомы показывает, что, несмотря на пролегающий в грузинском обществе раскол, степень политической поляризации в нем не столь сильна (возможно, именно вследствие невысокого доверия обеим противостоящим сторонам). Однако поляризация среди сторонников «Грузинской мечты» выше, чем в среде оппозиции. Другими словами, сторонники «Мечты» гораздо более симпатизируют своей партии и недолюбливают оппозицию, чем сторонники оппозиции (равно как и респонденты, которые не высказали четких симпатий к тем и другим) симпатизируют оппозиционным политикам и недолюбливают «Грузинскую мечту». Это создает условия «демобилизации» общества, при которых правящая партия сохраняет преимущество, даже несмотря на критику и недовольство со стороны оппозиции и общественности. В подобной ситуации критика не становится стимулом для энергичного и широкого протеста.
Динамика оспаривания: триггеры разворота и его последствия
Такой расклад сил полностью подтверждался динамикой протестов на протяжении первого месяца после выборов, однако в конце ноября произошел резкий перелом — после того как 28-го числа премьер-министр от «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приостановит переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года и заморозит все совместные программы с ЕС. Причиной этого заявления стала, по всей видимости, во-первых, принятая 26 ноября резолюция Европарламента, в которой помимо непризнания итогов голосования и призыва к проведению повторных выборов под контролем международных наблюдателей содержался также призыв к введению санкций ЕС в отношении Иванишвили, Кобахидзе и других назначенцев «Мечты» на высших государственных постах Грузии. А во-вторых, оценка протестного потенциала как низкого, сделанная функционерами партии по итогам первого месяца вялого протестного ралли.
Так или иначе, заявление Кобахидзе перевернуло ситуацию и стало триггером новой протестной волны, которая оказалась существенно более массовой и мобилизованной, нарастала в течение последних дней и привела к столкновениям демонстрантов с полицией. Этот поворот еще раз демонстрирует известный феномен «политики оспаривания»: протестные ралли, если они оказываются достаточно продолжительными, часто развиваются нелинейно и их динамика может радикально меняться под влиянием деформации их повестки и использования со стороны властей чрезмерного насилия в отношении протестующих, даже если последних оказывается не так много.
В данном случае триггером стало прежде всего изменение повестки протестов после заявления Кобахидзе. Оно, во-первых, вывело ее из «партийного тупика», связанного с тем, что медианный избиратель имеет равно низкое доверие и к «Мечте», и к оппозиции, а, во-вторых, сделало менее важной разницу между манипуляциями и фальсификациями. Одно дело, если манипуляции привели к некоторому улучшению результата «Мечты», и другое — если это преимущество используется для радикальной смены курса страны.
По данным социологических опросов, около 70% грузинских граждан поддерживают европейскую интеграцию страны и столько же считают Россию главным противником и главной опасностью для Грузии (→ Re: Russia: Мечта гомофобов; те же цифры — в упоминавшемся опросе «Кавказского барометра»). Цель европейской интеграции записана в статье 78 конституции Грузии, поэтому заявление Кобахидзе придало протестам новую легитимность: как заявила Саломе Зурабишвили, теперь протестующие не просто оспаривают результаты выборов, но защищают конституцию страны.
Как это было и в ходе Евромайдана в Украине в 2013 году, протесты приобрели стихийный характер, выйдя из-под «зонтика» оппозиции и партийной политики. Их резко возросшая интенсивность в свою очередь спровоцировала широкое применение силы со стороны полиции — использование спецназа, водометов и слезоточивого газа, преследования и задержания протестующих во дворах (по белорусскому сценарию). С высокой вероятностью это станет новым триггером расширения протестов: в такой ситуации к протестующим могут присоединяться даже те, кто не вполне разделяет или вовсе не разделяет цели протестующих.
При этом одним из самых тревожных для «Грузинской мечты» признаков изменившейся политической динамики является начавшийся процесс раскола в элитах и в рядах государственной бюрократии. Важной точкой этого процесса стало заявление Саломе Зурабишвили, что она не покинет пост президента до того, как новый президент не будет избран легитимным парламентом. Это заявление создает перспективу двоевластия в стране. Его эффект был усилен волной добровольных отставок грузинских послов и замминистра иностранных дел, а также коллективных заявлений сотрудников грузинских МИДа, Минобороны, Конституционного суда, тбилисской мэрии, Министерства образования и ряда крупных грузинских коммерческих компаний. Кроме того, появились сообщения о выходе на протесты школьников и забастовках в тбилисских школах.
Эта динамика открывает перспективу утраты контроля над государственным аппаратом со стороны правящей партии. У грузинских властей пока достаточно сил, чтобы справляться с протестами на улицах Тбилиси, но не факт, что их будет достаточно в борьбе с протестными настроениями, распространяющимися в корпоративном и государственном секторе. И если противостоящие демонстрантам спецназ и силы полиции в Тбилиси весьма вероятно останутся лояльны властям, то не факт, что удастся сохранить единство правоохранительных и силовых органов Грузии в целом.
Динамика протестных ралли остается во многом плохо предсказуемой. Дальнейшее развитие событий в Грузии будет во многом зависеть от того, удастся ли оппозиции сохранить накал в течение рабочей недели, чтобы подойти к новой протестной кульминации в следующие выходные, а также от того, насколько остро будет реагировать грузинское общество на насилие правоохранителей. Кроме того, следует ожидать, что «Грузинская мечта» попробует организовать альтернативные манифестации в свою защиту и спровоцировать столкновения демонстрантов с обеих сторон. Это позволит силовикам выступить в роли защитников не правящей партии и ее лидеров, а гражданского мира в стране. Но в любом случае, если еще неделю назад дело выглядело так, что «Грузинская мечта» успешно провела манипулятивные выборы и добилась демобилизации противостоящих ей политических сил, то теперь стол неожиданно перевернулся.
Бидзину Иванишвили и руководство «Грузинской мечты» происходящее ставит перед непростой развилкой. Если манипулятивные выборы и вызванные ими слабые протесты делали вероятным сценарий, при котором ЕС в результате вынужден будет смириться с новым положением вещей в Грузии, то необходимость применять силу для подавления протестов открывает перед грузинскими властями перспективу европейских санкций и статуса врагов ЕС. Это в свою очередь сделает их чрезмерно зависимыми от Москвы, что таит в себе опасности не меньшие, чем сами европейские санкции.
Однако по сути этот вопрос стоит и перед всем грузинским обществом: даже в условиях нарастающего скепсиса в отношении европейской интеграции — готово ли оно к судьбе Беларуси? До сих пор политический капитал Иванишвили был основан на его способности балансировать между продолжающимся процессом евроинтеграции (год назад Грузия получила статус страны-кандидата) и умиротворением Кремля, не склоняясь окончательно ни в ту, ни в другую сторону. В сложившейся ситуации такое его политическое преимущество выглядит во многом обесцененным, и это становится тем фактором, который делает успех оппозиции в нынешнем противостоянии возможным.