Интенсивная нормализация: российская пропаганда нацелена не на мобилизацию граждан, а на принуждение к ритуальной лояльности
За время, прошедшее с начала войны с Украиной, российское телевидение уделяло темам, связанным с нею, все меньше и меньше внимания, пишет в статье для издания Riddle профессор Пол Гуд, опираясь на данные проекта RuMOR (The Russian Media Observation and Reporting), отслеживающего освещение военных действий на российском телевидении. Пол Гуд приходит к выводу, что главная стратегия российской пропаганды — это нормализация войны, вписывание ее в повседневность, убеждение аудитории в том, что ничего экстраординарного не происходит. Казалось бы, во время войны правительство должно стремиться мобилизовать общественную поддержку со стороны граждан — но путинский режим предпочитает скорее держать население в состоянии демобилизации и аполитичной лояльности.
Война в российской пропаганде «разделяется» на ряд нарративов, которые в свою очередь вписаны в контекст традиционных для прогосударственных медиа тем и сюжетов. Так, например, обсуждая санкции, российское телевидение подчеркивало, что они были введены еще в 2014 году, снижая таким образом новизну ситуации и «нормализуя» ее. Несостоятельность Украины как государства, агрессивные намерения НАТО и США, украинский национализм/нацизм — все эти «объяснения» войны также выступают продолжением «укорененных» сюжетов. Для измерения актуальности того или иного нарратива RuMOR использует методологию «нормализации по погоде» — сравнивает частоту его упоминаний на российском телевидении с упоминаниями погоды. Если определенная тема упоминается чаще, чем погода, она с большей вероятностью будет замечена зрителями как требующая особого внимания.
Перекалибровка «по погоде» также показывает, насколько большой акцент на российском телевещании делается на обсуждении врагов России: украинских националистов, США, НАТО, «нацистов и фашистов», «наемников и террористов». Несмотря на объявленную на первых этапах войны цель «денацифицировать» Украину, в материалах о войне на российском ТВ нацисты упоминались в качестве врагов не так часто, как США и украинские националисты. В целом, пропаганда демонстрировала гибкость в легитимации войны: «денацификация» как ее основная цель практически перестала упоминаться на телевидении спустя всего две недели после начала полномасштабного вторжения, а «освобождение украинской территории» стало упоминаться заметно реже после первых семи месяцев военных действий.
Также перекалибровка «по погоде» позволила исследователям сделать вывод, что с начала войны эфирное время, уделяемое войне в Украине, планомерно снижалось. На региональных телеканалах война практически сведена до фонового шума. Всплеск упоминаний «СВО» приходится на период «частичной» мобилизации — особенно это было актуально в Южном и Дальневосточном федеральных округах, что, по мнению Гуда, свидетельствует о необходимости повышения легитимности войны в тех регионах, которые, вероятно, получили наибольшее количество похоронок. Пол Гуд отмечает, что снижение необходимости легитимировать «СВО» на национальном телевидении отражает нормализацию войны в России как рутинного и ожидаемого фона повседневной жизни. «Нормализуя» войну и размывая ее в общем контексте новостей, пропаганда в то же время добивается ее широкого фонового звучания, достигающего даже тех, кто не следит за новостями целенаправленно.
При этом ряд событий, таких как отступление из Херсона или перенесение войны на российскую территорию, заставляет телевидение реагировать, прежде всего — на интенсивность информационного потока в соцсетях и интернет-СМИ. Но и в этом случае рамка события остается размытой, а ключевые смысловые маркеры отсутствуют. Так, в репортажах, связанных с отступлением, отсутствовало само это понятие — упоминалась только «передислокация». А в информации о событиях в Белгородской области почти отсутствовали упоминания, что эти события происходят на территории России. Однако анализ таких ситуаций позволяет понять, какие темы застали российские власти врасплох. Чем больше различных нарративов и интерпретаций в течение короткого времени складывается вокруг одного события, тем вероятнее, что оно вызвало панику и власти не сразу определились со стратегией его публичной интерпретации. Такая ситуация сложилась, в частности, с пригожинским мятежом.
Нетривиальность стратегий современной пропаганды, которая не следует рецептам классической «мобилизации», все чаще отмечается аналитиками. Так, Джейд Макглинн из Департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона приходит в своих исследованиях к похожим выводам, отмечая, что вместо попыток превратить аудиторию в «истинно верующих» госпропаганда пытается подтолкнуть ее к спектру приемлемых для авторитарного режима реакций. Пропаганда обращается не к некоторой единой аудитории, но к целому их набору, предлагая каждому ее сегменту отдельные аргументы и способы «упаковки» информации. Таким образом режим создает «спектр союзников». Наряду с фоновой пропагандой, о которой пишет Пол Гуд, режим может использовать также методы «грубой пропаганды». Как показали научные эксперименты, эффект «грубой пропаганды» заключается не только в том, что она может убеждать какую-то часть аудитории, но и в том, что она, подрывая веру в достоверность информации у другой ее части, в то же время снижает ее склонность к протесту, убеждая недоверяющих в могущественности режима. Откровенная ложь выступает для нее маркером «силы». В целом, пропаганда не столько убеждает, сколько формирует модели поведения. «Для авторитарного правительства XXI века идеальной категорией являются ритуальные сторонники, поскольку такие режимы не доверяют политической субъектности как таковой, даже если ее носители поддерживают режим», — делает вывод Макглинн. Именно поэтому слишком рьяные сторонники войны могут становиться «врагами» режима — это показывает, в частности, недавний арест Гиркина-Стрелкова.Читайте также
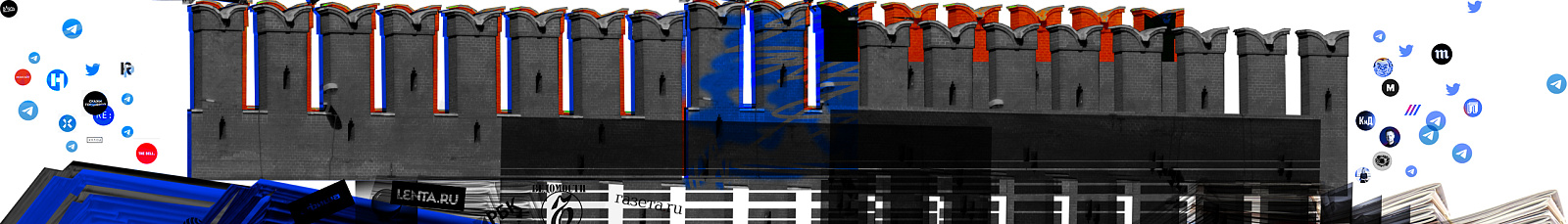 Телеграмма из Кремля и ее читатели: внешнее информационное вмешательство эффективно, когда оно резонирует с реальной неудовлетворенностью политической и экономической ситуацией
В постсоветских странах, где культурно-информационная связь с Россией остается существенной, а выбор в пользу евроинтеграции еще не сделан, пропагандистские кампании в Telegram оказываются эффективными — в том случае, если их нарративы падают на благодатную почву разочарования в перспективах вступления в ЕС и неудовлетворенности, связанной с внутренними проблемами.
Телеграмма из Кремля и ее читатели: внешнее информационное вмешательство эффективно, когда оно резонирует с реальной неудовлетворенностью политической и экономической ситуацией
В постсоветских странах, где культурно-информационная связь с Россией остается существенной, а выбор в пользу евроинтеграции еще не сделан, пропагандистские кампании в Telegram оказываются эффективными — в том случае, если их нарративы падают на благодатную почву разочарования в перспективах вступления в ЕС и неудовлетворенности, связанной с внутренними проблемами.