
Идеология безыдейных
Есть ли у нынешнего российского режима идеология?
Крестовый поход и колесо обозрения. Как менялась идеология путинского режима на протяжении двадцати лет
Идеология путинского правления прошла большой путь от формулы «сильное государство и цивилизованный быт» до реваншистского мессианства, ставшего идейным фундаментом нынешней военной авантюры. Драйвером этих изменений была необходимость обоснования несменяемости власти. Но если первый извод путинского идеологического реваншизма, опиравшийся на консервативные клише «традиционных ценностей» и «православных скреп», не предполагал особенного отзыва от граждан, то нынешняя риторика «апокалиптической битвы» и «крестового похода» требует перехода к мобилизационной модели.
Даже относительно устойчивые режимы, а российский политический режим существует уже более двух десятилетий, не могут существовать без идеологии, ибо это тот язык, на котором они формулируют свои пожелания, предписания и табу, обращенные к населению. Режим без идеологии невозможен так же, как без полиции или финансовой системы. Другой вопрос, в какой мере она сама является устойчивой, последовательной и артикулированной и каков ее реальный мобилизационный потенциал?
Разумеется, ни разработанной политической философии, ни продуманной программы, ни объединительной идеи религиозного типа в распоряжении сегодняшней российской власти нет, но такие мощные инструменты — вообще редкость в идеологическом арсенале новейших тираний. Бóльшая их часть легко обходится базовым набором квазиконсенсусных символов и метафор, которые позволяют власти доходчиво разъяснять подданным, что от них ожидается, по каким признакам следует отличать своих от чужих и почему надо смириться с временными неудобствами жизни и неукоснительно поддерживать начальство. Собственно, в этом и состоит назначение государственной идеологии, которая, чтобы оказаться успешной, должна опираться на набор полуосознанных политических мифов, разделяемых большинством. На протяжении последних двадцати лет путинский режим вполне квалифицированно и умело предъявил urbi et orbi несколько таких сменяющих друг друга наборов.
Сильное государство и цивилизованный быт
Идеологическую матрицу первых лет правления Путина можно определить как «сильное государство и цивилизованный быт». По умолчанию декларировалась преемственность по отношению к базовым идеологемам 1990-х, таким как «войти в цивилизованный мир» и «стать нормальной страной», подчеркнутая заявленной целью «догнать Португалию». Вместе с тем считалось, что ельцинский режим не мог достичь этих целей из-за слабости центральной власти, неспособной справиться ни с боярской фрондой, ни с чеченским терроризмом, поэтому мирный быт сограждан требовалось дополнить «вертикалью власти», «диктатурой закона» и т. п. В новогоднем обращении, переданном примерно через двенадцать часов после того, как Путин приступил к исполнению обязанностей президента, мы увидели его стоящим с непокрытой головой у кремлевской стены. Пока страна мирно выпивала, президент на посту охранял ее покой. Поздравив страну с праздником, Путин отправился в Чечню.
Надо сказать, что такая идеологическая конструкция была поддержана как большинством, начавшим ностальгировать по советским временам, которые стали издалека выглядеть сытыми и спокойными, так и стремительно европеизировавшимися городскими элитами. Разрушила этот консенсус не столько даже остановка экономического роста, сколько невозможность гарантировать несменяемость власти, которая была для руководства страны абсолютным приоритетом. Лозунг «суверенной демократии», призванный обосновать такую несменяемость, был выдвинут еще до начала экономического кризиса.
Скрепы и ценности
После Болотных протестов 2011–2012 годов модернизационные элементы официальной идеологии были отброшены, а на их место пришли «скрепы» и «традиционные ценности», призванные обеспечить «стабильность», служившую обозначением все той же несменяемости власти. Помимо самоценной скрепы «сильной власти», этих «традиционных ценностей», собственно говоря, было две — культ Победы, превратившийся в официальную религию, и агрессивная гомофобия, начисто чуждая русской культуре и заимствованная из идейного арсенала американских правых радикалов. «Покорение Крыма», санкции и контрсанкции окончательно оформили идеологическую модель, в которой население страны делилось на «подавляющее большинство» и подлежащее подавлению «меньшинство», а былой «креативный класс» был переименован в «пармезанщиков» и «хамонщиков», то есть в потенциальных предателей.
Модель эта была в основе своей изоляционистской и исходила из смутных представлений об «особом пути» России, разделявшихся, если верить данным «Левада-центра», большинством населения. Идея «особого пути» пришла на смену стремлению стать «нормальной» страной и носила отчетливо антизападный характер. Вероятно, поэтому многие сегодняшние наблюдатели подчеркивают изоляционистский характер той идеологической конструкции, которая оформилась после начала войны, связывая ее с идейным наследием славянофилов. Между тем такая интерпретация выглядит как минимум неполной, а скорее всего и просто неверна.
Время реванша: мессианский извод
Разумеется, нынешний извод официальной идеологии наследует предыдущему и в пропаганде «традиционных ценностей», и в поклонении Победе. Однако, если прежде казалось, что помешательство на былом величии имеет чисто реставрационный характер и выражает лишь неопределенную ностальгию то ли по СССР, то ли по Российской империи, то теперь обнаружился его национально-мессианский аспект. Путинская Россия претендует на место во главе коалиции автократий, противостоящих гегемонии Запада и намеревающихся привести его к всемирно-историческому поражению.
Одной из устойчивых российских политических мифологем является превращение поражения в победу. Все войны, вошедшие в базовый нарратив русской истории, начинались с тяжелых неудач, в конце концов оборачивавшихся триумфальной, хотя и давшейся неимоверными жертвами победой. За битвой на Калке следует покорение Казани, за нарвским разгромом — Полтава, за сожжением Москвы — взятие Парижа. «Мы долго молча отступали», — писал Лермонтов в стихотворении «Бородино», которое полтора столетия учили наизусть русские школьники. История Великой Отечественной войны от поражений 1941 года до падения Берлина как бы кристаллизует эту мифологию.
На этот раз в качестве точки отсчета был выбран распад СССР — «величайшая геополитическая катастрофа ХХ века» — и последовавшие за ней «лихие 1990-е», осмысленные как повторение Смутного времени. Теперь в соответствии с логикой избранного сюжета для России настает время реванша. Стоит вспомнить, что ультиматум, выдвинутый Западу в 2021 году, включал в себя не только условия, непосредственно связанные с Украиной, но и общее требование де-факто отменить расширение НАТО — «забирать манатки», как выразился в те месяцы крупный российский чиновник.
Понятно, что в нынешнем альянсе автократий Россия не может по своему экономическому значению конкурировать с Китаем, но эта слабость должна быть компенсирована исторически подтвержденными мощью русского оружия и мужеством русского солдата. По-видимому, состоявшийся в преддверии бомбардировок Киева олимпийский визит Путина в Китай призван был зафиксировать такое распределение ролей.
Национальное преображение: вождь и народное тело
Такое национальное преображение подразумевает не просто сильного лидера, образ которого официальная пропаганда вполне успешно создавала Путину с первого дня его президентства, но вождя, воплощающего в себе протяженность и неделимость народной истории. По-видимому, придание набору пресловутых «традиционных ценностей» конституционного статуса, наспех осуществленное поправками 2020 года, не было только камуфляжем для оформления пожизненного президентства, как это принято полагать, но должно было установить связь между вождем и народом, естественно не тем, который реально жил в России к концу 2010-х годов, но — с мистическим народным телом, существовавшим на всем протяжении тысячелетней российской истории.
В таком народе уже нет места тем, кто сомневается в мудрости вождя и его праве вести страну к новым жертвам и новым победам. Таких отщепенцев, как говорили в советские времена, или извергов, как выражались в XIX веке, уже недостаточно было ограничивать в правах и оплевывать, их нужно было в буквальном смысле «отщепить» от народного тела и «извергнуть» из него.
Однако, если вождь для новой идеологической конструкции был уже готов и предъявлен стране на протяжении двух десятилетий, настоящий народ для него еще предстояло создать. И самым главным шагом на этом пути было объявлено восстановление его исторического единства, подорванного Лениным, создавшим на территории Украины и Белоруссии квазигосударственные образования, и разрушенного Горбачевым и Ельциным, санкционировавшими их отделение. В этом смысле целью войны, начавшейся 24 февраля, было не возрождение империи, а объединение метрополии. Соответственно, те граждане этих стран, которые были убеждены в том, что они принадлежат к отдельным народам, имеющим право на собственную независимую государственность, оказывались не сепаратистами, подобными чеченским инсургентам 1990-х годов, но предателями — иноагентами, отщепенцами и извергами одновременно.
В русских сказках убитых богатырей сначала поливали «мертвой водой», чтобы отрубленные части их тела могли срастись, и только после этого «живой водой», способной вернуть их к жизни. Разрубленное коварным и жестоким Западом тело русского народа надо было сначала полить мертвой водой войны.
Крестовый поход и колесо обозрения
Нет смысла указывать на логические нестыковки такой конструкции или ее противоречия историческим фактам. Гораздо важнее — несоответствие ее содержания и ее статуса. По сути, это вполне тоталитарная идеология, требующая к себе религиозного отношения. Между тем в современной России, в отличие от СССР или Германии 1930-х годов, Китая 1960-х или Ирана 1970-х, нет ни демографических, ни экономических, ни социальных предпосылок для успешного тоталитаризма.
Эти идеологические построения вполне соответствуют представлениям, ожиданиям и чаяниям значительной части населения, готовой их принять и усвоить, но вряд ли по-настоящему уверовать в них и приносить ради них жертвы. Похоже, и сама власть сознает эту проблему и потому запрещает называть войну войной, не спешит подкрепить мобилизационный пафос пропаганды практической мобилизацией или перейти от выборочных репрессий к массовым. Уникальность сегодняшней ситуации — в стремлении Кремля сочетать риторику и эмблематику крестового похода с попытками убедить обывателя, что обычная жизнь продолжается. В день наступления украинской армии в Харьковской области президент Путин открывал в Москве колесо обозрения.
Неудивительно, что в российском политическом обиходе все слышнее голос, как кажется, немногочисленной, но агрессивной группы радикалов, которых такой стеснительный тоталитаризм не устраивает и которые предлагают идти до конца.
На сегодняшний день идеологический аппарат власти оказался перед трудноразрешимой дилеммой. Даже при относительно благополучном для него исходе военных действий, который выглядит все более сомнительным, возвращение к идеологии мирного времени будет означать отказ от концепции апокалиптической битвы с западной цивилизацией, а следовательно — обесценивание войны и принесенных жертв. Напротив того, наращивание риторики чрезвычайного положения не только может спровоцировать колоссальное социальное напряжение, но и неизбежно приведет к поиску врагов и предателей на самых верхних этажах государственной власти — угроза, которую сами обитатели этих этажей вполне ясно осознают.
Российскому правящему режиму достаточно долго удавалось эффективно обновлять свои идеологические модели и адаптировать их к изменявшейся политической ситуации. На сегодняшний день потенциал такой адаптивности близок к исчерпанию.
Колесо обозрения, торжественно открытое президентом, на следующий день сломалось.
Мобилизация демобилизованных. К идеологической индоктринации не готово ни общество, ни политическая система
Нынешний российский режим не столько опирается на идеологию, сколько пытается преобразовать свои пропагандистские клише в идеологическую платформу. Однако первые же попытки придать этим опытам характер обязательной доктрины наталкиваются на глухое сопротивление общества. Лежащие в ее основании идея жертвенности и культ смерти входят в конфликт с той гуманизацией социальных норм, которая имела место в России в предшествующие двадцать лет. Культ личного успеха и культ потребления, сопряженные с воспитанным самим нынешним режимом социальным лицемерием, — неблагоприятная среда для попыток мобилизации и пропаганды коллективной жертвенности.
От оппортунизма к индоктринации
У современного российского политического режима нет идеологии как цельного взгляда на историю, происходящие события и, самое главное, — на будущее развитие. Нет системы, которая производит и обуславливает его публичную риторику (то есть пропагандистские тезисы). Скорее, это происходит в обратном порядке: пропагандистские тезисы задним числом образуют или пытаются образовать некоторую идеологическую платформу, на которую они должны были бы опираться, но на самом деле возникают ситуативно и оппортунистически, ad hoc.
Можно сказать, что эта предполагаемая идеология режима формируется или нащупывается. Я бы назвала два фактора, необходимых для того, чтобы эта, по моему мнению, не существующая сейчас идеология действительно сформировалась. Это, во-первых, информационная монополия, то есть достаточная закрытость информационного пространства страны для обеспечения почти полного контроля над ним. Второй фактор — это время. То есть существующий порядок вещей, обобщенно понимаемый «режим», должен прожить — причем прожить и выглядеть достаточно сильным и эффективным — достаточное время, чтобы практики превратились в обычаи, случай превратился в норму, а пропаганда проросла в идеологию или образовала ее.
Сколько для этого нужно времени? Можно оперировать термином «жизнь поколения», одного или двух; можно оперировать временными отрезками, покрывающими то, что называется «formative years» («формирующие годы») одного поколения. Можно предположить, что для того, чтобы «прокомпостировать мозги» одному поколению, необходим срок, сравнимый со сроком школьного обучения. Если у вас есть десять-пятнадцать лет, то это, в общем, период некой устойчивой идеологической индоктринации для одной-полутора демографических страт (людей, родившихся в период одной пятилетки).
Инстинктивно осознавая это, политическая система прямо сейчас пытается изменить свой подход к образованию — и к высшему, и, прежде всего, среднему школьному. Идеологическая индоктринация школьного образования — один из самых важных элементов возможной режимной трансформации из полуоткрытой информационной автократии в более тоталитарную политическую модель.
Культ смерти против культа детей
Пока мы присутствуем при самом начале этого процесса, но уже видим, как в этом самом своем начале он наталкивается на трудности. Какого рода эти трудности? Это ни в коем случае не протест, но это отторжение и тихий саботаж со стороны двух категорий граждан, которые чрезвычайно важны режиму своей лояльностью. Это педагоги (учителя и школьные администраторы) и родители.
Родители детей школьного возраста были как раз воспитаны и сформировались как личности в течение последних пятнадцати-двадцати лет — в предыдущем периоде, то есть в периоде относительной информационной открытости, проникновения в российское культурное пространство, а затем — и в бытовые практики новых ценностей гуманизации и второго демографического перехода. То есть это преимущественно люди, у которых мало детей, для которых родительство является сознательным выбором и для которых дети являются ценностью. Таковы, естественно, не все родители этого возраста (не все родители, чьи дети ходят в школу), но такого рода отношение и соответствующее поведение стали за это время социальной нормой. Социальная норма — это не то, чему все полностью соответствуют, от нормы можно отклоняться (если бы от нее никто не отклонялся, не было бы смысла ее и формулировать), но это то, что все — гласно или негласно — признают правильным, признают за нечто обобщенно «хорошее». Вот так относиться к детям — правильно, если вы ведете себя иначе, вы это скрываете или специально объясняете/оправдываете.
Разумеется, дети бывают у людей разного возраста. Но в целом возраст родителей школьников в городской России — 30–50 лет. Мы видим, как в данных опросов общественного мнения напрямую коррелирует с возрастом поддержка войны и любого рода человеконенавистнических тезисов и политик. Поддержка войны наиболее высока в возрастной группе 55+. Плохое отношение к Украине и вообще к внешнему миру — это тоже возраст 55+. Поддержка президента — 55+. Смотрение телевизора — 55+. У людей этой возрастной группы тоже могут быть дети-школьники, но в норме дети-школьники скорее будут у людей моложе пятидесяти.
Именно эти люди были недовольны программой вводившихся в школах «разговоров о важном», насколько можно судить по рассеянному ропоту, который оказался достаточно эффективен для того, чтобы не отменить само решение (это в нашей политической системе почти невозможно), но изменить программу и содержание «разговоров». Давайте посмотрим внимательнее на то, чем они оказались недовольны. Они оказались недовольны той формой, в которой предлагалось говорить с детьми «о важном» в рамках новых понедельничных уроков. Очищая смысловое ядро этого недовольства от риторической шелухи, я бы описала его следующим образом: им не понравился культ смерти. Если совсем просто говорить: им не нравится, что детям проповедуют смерть, убийства и радости разного рода суицидальных практик.
Мне это кажется важным, во-первых, потому что подтверждает тезис о гуманизации, и, во-вторых, это подводит нас к ответу на вопрос об идеологии. Как только начинаешь пытаться сформулировать некую идеологию, которая была бы соприродна российскому политическому режиму в его нынешней стадии, то все, что возникает, — это культ силы и культ победы, за которыми стоит культ смерти.
Культ потребления, приспособленчество и имитация против тоталитаризма
Это интересный момент. Да, многие религии проповедуют радости загробной жизни, многие диктатуры эксплуатируют патриотический подвиг в смысле жертвования индивидуальным ради коллективного, жизнью человека ради блага государства. Почти любому начальству выгодно проповедовать податному сословию разные формы самопожертвования, чаще всего — экономического, но и физического тоже. Это простой способ получить человеческий труд и ресурсы даром. Если отдавание чего бы то ни было даром проповедуется как достойный, добродетельный поступок.
Но пропаганда всех этих форм самоповреждения не очень накладывается на ценности российского общества, она не очень пригодна для массового распространения в нем. Это может быть идеологией ордена ассасинов или тамплиеров, но для общества, структурной единицей которого является семья, а не отряд товарищей, это не очень годится. Даже самому начальству как социальной страте не очень соприроден идеал сладостной смерти с оружием в руках, странный извод идеологии викингов или разнообразные некрофилические культы возрождения через самосожжение.
Особенно явно это противоречит устойчиво сложившимся ценностным ориентирам российского общества. Среди них на первом месте стоят благополучие собственное и благополучие своей семьи. Российское общество конформное, атомизированное, не способное (точнее, слабо способное) к солидарности, с низким уровнем институционального и межличностного доверия. Мы часто сокрушаемся по этому поводу, справедливо полагая такой набор ценностей препятствием развитию, но сейчас мы видим, что он также является препятствием для тоталитарной трансформации. На пути успешной фашизации социума стоят оппортунизм, приспособленчество, культ личного успеха и личного потребления, всякого рода «гедонизм бедных» (то, что эксплуатирующие классы называют обычно «ленью») и присущие этим ценностям поведенческие практики: уклонение, лицемерие, имитация и саботаж.
Саботаж уроков «о важном» можно сравнить с другими случаями рассеянного сопротивления, например — с сопротивлением законодательному закреплению дистанционных образовательных практик, сложившихся в ковид. Мы помним, как это рассеянное родительское сопротивление остановило принятие законопроекта о дистанционном обучении, воспринятого гражданами как узаконение чрезвычайного и превращение его в постоянное. Законопроект не был принят, и президент публично высказывался на эту тему, говоря, что нет, ничего такого не будет, все ученики вернутся в школы. И действительно, это произошло.
Другой пример — протесты против введения QR-кодов. Это происходило в 2021 году и стало интересным примером протеста в условиях запрета на любые протесты. Эти практики сопротивления — коллективные обращения, приход граждан в региональные законодательные собрания, массовые комментарии в Telegram-канале спикера Госдумы — оказались успешными. Закон о QR-кодах был отложен и, судя по всему, в ближайшей перспективе рассмотрен не будет.
К той же категории можно отнести и сопротивление закону о домашнем насилии. Конечно, решающую роль в его непринятии сыграло руководство РПЦ и консервативные наклонности пожилого высшего чиновничества, но в этом случае РПЦ и радикально-консервативные (как ни парадоксально звучит эта формулировка) медиаресурсы оказались поддержаны достаточно широкими общественными кругами. Потому что закон о профилактике семейно-бытового насилия был воспринят как новый инструмент, при помощи которого государство будет лезть в семьи.
Характерно, что один из Telegram-каналов, организовавший разного рода акции против этого закона, назывался «Оставьте нас в покое». Это поразительный лозунг, который, как мне кажется, просто должен быть написан на гербе Российской Федерации. Это то, чего хотят граждане. Этому противоречит, разумеется, любая агрессивная, империалистическая политика и в целом — любая проактивность. Может быть, именно поэтому всякого рода проактивные, экспансионистские, империалистические деяния, и внешне-, и внутриполитические, ожидаемого успеха не имеют. Это противно природе социума — такого, каковым он сложился к началу 2020-х годов.
Окопная неправда
Пожилому политическому режиму довольно затруднительно, не изменившись кадрово и не изменившись политически, выдумать или высидеть из яйца какую-то новую идеологию, кроме той идеологии деполитизации, социальной атомизации и демобилизации, на которой он стоял больше двадцати лет. В этом смысле политический режим уперся в пределы своих возможностей, когда, будучи основан на демобилизации, поставил перед собой задачу, решаемую средствами мобилизации. Оказалось, что нет этих средств и нет присущих им инструментов. Именно так можно сформулировать проблему несуществующей российской идеологии.
Что остается и на что, возможно, граждане согласны: на очень смутное и очень обобщенно формулируемое антизападничество или изоляционизм. Ощущение того, что мы не такие, как весь мир; мир к нам, в общем, враждебен; никому мы не нужны; никто нам добра не желает. Это соответствует мироощущению российского гражданина внутри России. Это соответствует низкому уровню межличностного доверия и рассеянному в воздухе постсоветскому цинизму, который считается у нас практической мудростью.
Такую картину мира можно описать как гоббсово естественное состояние человека — «войну всех против всех». Война эта столь же вечная, сколь и вялая, позиционно-оборонительная: никто никому добра не желает; никто никому особенно не помогает; любые транзакции — это скорее игра с нулевой суммой, чем win-win. Как считают постсоветские люди: «так мир устроен», — как на этаже межличностных отношений, так и на этаже отношений межгосударственных. Вот в этом, пожалуй, будут сходиться начальство и его подчиненные, или население, как они сами выражаются.
Пока мы имеем дело с процессом поиска идеологии на достаточно ранней стадии. Может быть, ситуация еще поменяется, и государство все же призовет к себе на службу какие-то, пока не видимые активные социальные слои. Мы не знаем, где они, мы не знаем, существуют ли они, и мне лично кажется, что их не существует. Но, может быть, откуда-то из-под земли они вырастут; может быть, они сметут нынешний порядок вещей. Может быть, они сформулируют нечто более похожее на идеологию, чем нынешние вялые попытки сделать это силами тех людей, которые пятнадцать, а то и двадцать лет публично навязывали обществу (в общем, не без его согласия) идею, что «правды не существует», «правду мы никогда не узнаем», «все врут», «да, и мы врем, но и другие не лучше», «и вообще, лучше не лезть в это мутное дело».
Тот же широкий медиаколлектив, проповедовавший то, что, по сути, является антиидеологией, пытается теперь (не особенно успешно) произвести однозначные идеологические постулаты, в которые надо верить и ради которых надо жертвовать собой. Пока совершенно не видно, каким образом на этом бензине можно куда-то поехать.
Если некая идеология все же сформируется и будет иметь успех, то ее будут рассказывать нынешним школьникам. Если это делать десять лет, имея достаточную силу, чтобы контролировать информационное пространство в большей степени, чем оно контролируется сейчас, то через десять лет нынешние семилетние-десятилетние могут выйти в гражданскую жизнь воспитанными именно таким образом. Неважно, насколько они будут в это верить, но они будут выращены в мире, где так нормально себя вести: сидеть на уроке, даже если ты видишь, что учителю это не нравится и никому их твоих сверстников это не нравится, но все равно надо сидеть, нельзя возражать, надо молчать, надо это терпеть. Вот урок, который на самом деле будет преподан.
Но это, надо сказать, почти то же самое отношение к идеологии, с которым развалившаяся советская власть выпустила в широкий мир своих учеников и воспитанников. И в поздних 1980-х — ранних 1990-х они проявили себя социально, исходя из того, чему их так долго учили.
Советизм и антиглобализм на знамени оппортунизма. Как устроены идеологические нарративы позднего путинизма
Идейной рамкой ключевых нарративов эпохи Путина стало причудливое сочетание геополитических фантазий, конспирологии и морального алармизма. В этом отношении постсоветская Россия совсем не уникальна, однако является, вероятно, единственной крупной страной начала XXI века, где радикальная конспирологическая картина мира оказалась настолько популярна не только в массовой культуре, но и в среде политического истеблишмента.
Идеология идеологии
Людям, выросшим в СССР, слово «идеология» гораздо понятнее и привычнее, чем их сверстникам из США и Западной Европы, которым этот термин указывал, как правило, на запутанные дебаты левых теоретиков. Советская версия понятия «идеология» с легкой руки Ленина обрела, скажем так, метатеоретический и отчасти религиозный характер: «научная идеология марксизма» как бы подразумевала коллективное освоение объективной истины, неизбежно ведущее к борьбе с «ложными идеологиями» буржуазии, реакции, империализма и т. п. Наверное, именно поэтому поиски новой государственной или национальной идеологии заняли заметное место в политических дебатах и коллективном воображении социальных элит в постсоветских обществах. В качестве смутного объекта желания российских политтехнологов и чиновников «идеология» восходила к советской трактовке этого термина, а не к разнообразным концепциям, обсуждавшимся в XX веке специалистами по социальной теории.
Дело, конечно, не только в дискурсивной инерции. Внезапный и быстрый коллапс практик тотальной индоктринации, техник социального взаимодействия и политических ритуалов, характерных для позднего СССР, оставил в символической вселенной обширную брешь, которую было не так-то легко заполнить. Различные группы и сообщества справлялись с этой проблемой по-своему — от демонстративного и гипертрофированного потребления до создания утопических и эсхатологических коммун. Как бы то ни было, Путин и его политтехнологи думали и продолжают считать, что Россия нуждается в государственной идеологии и не один раз предпринимали, пускай и не вполне уверенные, попытки ее сконструировать.
Исследователи могут вкладывать в понятие идеологии довольно разные смыслы. Наиболее уместным, по крайней мере — применительно к современной России, мне представляется некогда предложенное Жаном-Франсуа Лиотаром понятие метанарратива. В широком смысле оно указывает на символические шаблоны или повествовательные модели, придающие смысл и историческую перспективу национальной, этнической и прочим идентичностям. В эпоху Путина в стране сформировалось несколько таких нарративов, лишь отчасти связанных друг с другом.
Мессианизм: досоветский, советский и постсоветский
Историю русского мессианства можно, конечно, начинать с XVI века или с еще более давних времен, но представление об особой миссии России и ее народа, с которым приходится сталкиваться нашим современникам, все же преимущественно восходит к политическим и историософским идеям второй половины XIX столетия. Известная теория о Московском государстве как о «третьем и последнем Риме», судя по всему, не пользовалась особой популярностью в среде светских элит XVI–XVII веков. Как показал американский историк Маршалл По, ее «второе рождение» или даже «изобретение» произошло лишь в 1870–1890-х годах, когда появились историософские доктрины, изображавшие русский народ «третьей силой», стоящей между воображаемыми Западом и Востоком, лидером будущего «славянского братства» или даже основателем грядущей всемирной христианской цивилизации.
Хотя черты советской коммунистической утопии на протяжении 70 лет существования СССР менялись, она всегда имела мессианский характер. Построение социализма и ожидание скорого наступления коммунизма в Советском Союзе объявлялось «столбовой дорогой» человечества в третьей Программе КПСС. Правда, в ее новой редакции, принятой в 1986 году, мессианской уверенности сильно поубавилось, а спустя еще пять лет коммунистический проект окончательно ушел в прошлое. Поиски новых мессианских идей и проектов для постсоветской России обычно подразумевали и «православное возрождение», но оно, как вскоре выяснилось, отторгалось массовой культурой. Поэтому попытки «возродить» православие в качестве первой среди равных религий постсоветской России, несмотря на значимую государственную поддержку, оставались по большей части декоративными и не позволяли сформировать последовательный идеологический нарратив. Правда, именно православные публицисты и идеологи, начиная с митрополита Иоанна (Снычева), сыграли по-своему заметную роль в распространении и популяризации геополитической конспирологии и морального алармизма, на которые опирался и продолжает опираться режим Путина.
Культ победы и «имперская невинность»
У советского мессианизма была еще одна составляющая, сформировавшаяся в последние десятилетия СССР, — нарратив о спасении мира от фашистской угрозы ценой неимоверных жертв, принесенных во время войны. Правда, он не вполне соответствовал классическим формам мессианских сюжетов, обращенных не в прошлое, а в будущее и подразумевающих, что спасение и всеобщее счастье ожидают где-то впереди. С другой стороны, военные нарративы, лозунги и ритуалы, по всей видимости, вызывали у позднего советского общества гораздо более интенсивную эмоциональную реакцию по сравнению с ожиданиями коммунистического будущего и отличались своего рода ореолом подлинности. Они имели прямое отношение к приватному опыту и памяти конкретных людей и семей и позволяли придать своего рода метаисторический смысл самой кровопролитной войне в истории человечества.
В эпоху Брежнева коммеморативные ритуалы и практики, связанные со Второй мировой войной, стали приобретать характер гражданской религии, и эта тенденция возродилась в отчасти гипертрофированном виде в эпоху Путина. Поздний советский «культ победы» сочетал представления о спасении мира, искупительной жертве и генеалогии современного общества: предки и ветераны, пожертвовавшие собой на войне, не только спасли мир, но и как бы обеспечили саму возможность мирной и благополучной жизни своих потомков. Исходя из типологии мифологических сюжетов, можно, наверное, сказать, что советский нарратив о Второй мировой войне сочетал черты этиологического, героического и эсхатологического мифов.
Это, по-видимому, и сделало «религию победы» наиболее привлекательной для путинских политтехнологов и пропагандистов, понимавших, что «православное возрождение» не оправдало ожиданий. Помимо прочего, этот метанарратив позволял как бы сгладить память о сталинизме, о роли, которую сыграли в массовых репрессиях предшественники путинского ФСБ, о депортации народов, о послевоенной оккупации стран Восточной Европы и т. п. В известном смысле «религия победы» была своего рода залогом «российской имперской невинности», если воспользоваться входящим в моду термином.
При Путине этот милитаристский культ зажил, так сказать, собственной жизнью, вышел за пределы политической пропаганды и действительно стал значимой частью массовой культуры. Одним из общих мест «религии победы» стала идея воспроизведения войны, иначе говоря — возвращения на поле сакральной битвы между советским добром и нацистским злом. Об этом свидетельствуют не только лозунги типа «можем повторить», но и целый набор сюжетов и практик массовой культуры — от военно-исторических реконструкций до фантастических романов и фильмов о современных россиянах, внезапно оказывающихся на фронтах Второй мировой.
Достаточно очевидно, что именно этот культ позволил и путинским пропагандистам, и их аудитории сформировать приемлемый шаблон для объяснения смысла и целей российской агрессии. Ритуал отличается от других видов человеческого поведения отсутствием непосредственного прагматического смысла совершаемых действий. В этом отношении война путинского режима против Украины оказалась именно ритуальной, поскольку у нее с самого начала не было ясно сформулированных целей. В то же время такая эволюция милитаристских обрядов и нарративов лишает их ритуального значения: если война пришла в реальную жизнь и оставляет после себя не воображаемые, а настоящие трупы и руины, ее больше не нужно воспроизводить при помощи парадов, ритуальных шествий, фильмов и романов. Иными словами, эту «ритуальную войну» можно считать историческим финалом и логическим завершением «религии победы».
Тревога и геополитическое воображение
Еще одним значимым метанарративом эпохи Путина стало причудливое сочетание геополитических фантазий, конспирологии и морального алармизма. В этом отношении постсоветская Россия совсем не уникальна, однако является, вероятно, единственной крупной страной начала XXI века, где радикальная конспирологическая картина мира оказалась настолько популярна не только в массовой культуре, но и в среде политического истеблишмента. Коллективные фантазии на тему борьбы цивилизаций, заговора правительств, экономических элит, религиозных организаций и т. п. вообще довольно характерны для глобальной политической культуры второй половины XX — начала XXI века. Современная Россия при этом отличается особой чувствительностью к воображаемым опасностям этического и ценностного характера: так, скажем, государственная «Стратегия национальной безопасности» многократно упоминает довольно расплывчатые «традиционные российские духовно-нравственные ценности», которым, как предполагается, угрожает «внешняя культурная и информационная экспансия».
Конспирологический алармизм такого рода, вообще говоря, довольно типичен для маргинальных религиозных и националистических групп: сходным образом, например, рассуждали консервативные протестанты-евангелики в США 1970-х годов. Впрочем, тогда же появляются и аналогичные представления в позднем советском обществе, о чем, например, свидетельствует история так называемого «плана Алена Даллеса» — конспирологической фальшивки, основанной на фрагменте романа советского прозаика Анатолия Иванова «Вечный зов», где излагались тайные намерения «троцкистов» ввергнуть советский народ в пучину социальной, моральной и эстетической деградации.
Особенности и глобальное распространение современной конспирологии нередко объясняют в терминах «паники агентности» — концепции, предложенной американским литературоведом Тимоти Мелли. По его мнению, формирование и взрывообразный рост популярности теорий заговора во второй половине XX века непосредственно связаны c коллективным переживанием «убывающей агентности», «чувством, что человек теряет способность совершать осмысленные социальные действия, а в отдельных случаях и контролировать собственное поведение». Речь идет, таким образом, о неизбежных последствиях глобализации, роста информационных потоков, а также эрозии привычных социальных иерархий и структур. Постсоветская конспирология усугублялась еще и быстрым исчезновением железного занавеса, распадом империи, а также довольно тяжелым экономическим кризисом.
Я уже сказал, что заметную роль в распространении постсоветской конспирологии сыграли православные активисты и публицисты, зачастую обсуждавшие и политические процессы, и перемены в повседневной жизни в эсхатологических терминах. В отношении к этому опять-таки вполне применимы идеи Мелли, поскольку главную роль здесь играют две связанные друг с другом темы: утрата человеком индивидуальной агентности (способности к самостоятельному принятию решений) и «загрязнение», понимаемое одновременно и в моральном, и в физиологическом смысле. В религиозной риторике «последнего времени» обе они зачастую обсуждаются при помощи телесных образов и метафор. Апокалиптическое воображение такого рода уравнивает и даже отождествляет телесное, духовное и социальное, оперируя представлениями о, скажем так, «расширенном теле», которое вместе с тем подвергается постоянным рискам «загрязнения» и потери автономии. Важно, однако, что тревоги такого рода могут выражать себя не только в терминах религиозной эсхатологии, но и в форме геополитического воображения, в частности — в любимых Путиным и его сторонниками рассуждениях об отстаивании государственного суверенитета, «традиционных ценностей» и «особого пути развития» России.
Таким образом, как мне кажется, путинский режим и породившее его постсоветское общество не следует считать полностью лишенными идеологии. Здесь сформировались по-своему влиятельные метанарративные модели, отчасти связанные с культурой позднего СССР и вместе с тем довольно типичные для современных антиглобалистских дискурсов. Другое дело, что эти нарративы, идеи и ожидания свидетельствуют о продолжающемся глубоком кризисе, обусловленном довольно банальными и хорошо известными факторами: распадом империи, крахом советской модернизационной модели и сложностью современного информационного общества. Речь, как мне кажется, идет о еще не закончившейся деградации и фрагментации позднесоветской (и в более широком контексте — имперской) символической вселенной. Сложно представить, как на этих обломках «незавершенного советского» может вырасти или быть построена влиятельная мобилизационная идеология. Большинство россиян, по всей видимости, не столько поддерживает войну, сколько пытается забыть о ней, чтобы сохранить видимость «нормальной» повседневной жизни. О социальных причинах этого морального оппортунизма и потребительского конформизма нужно говорить отдельно, поскольку они, как мне кажется, связаны не только с постсоветской экономикой и политикой, но и с более общими социально-демографическими процессами. Важно, однако, что обсуждаемые идеологические шаблоны путинского общества сформировались и остаются функциональными преимущественно в мире оппортунистической, а не героической этики.
Мифология «коллективной жертвы» и стратегическая деполитизация. Идейные основы российского государственного антилиберализма
Представляя нацию «коллективной жертвой», идейные предприниматели Кремля направляли негативные эмоции и фрустрации населения на воображаемого «врага России». Стратегическая деполитизация российского общества — еще одна важная опора, дополняющая идею «коллективной жертвы» и обеспечивающая устойчивость путинскому авторитаризму. Навязав российскому обывателю войну как новую реальность, Путин создал конфликт между двумя этими опорами своего режима, разрешение которого зависит от того, какая из двух основ окажется более значимой — ресентимент или деполитизация и отмежевание от государства?
Генезис государственного антилиберализма: вызовы и стратегический ответ 2012 года
Идейные основания нынешнего политического режима в России складывались с 2012 года как ответная реакция на прогрессивную общественную мобилизацию. Известие о возвращении Владимира Путина на пост президента страны подстегнуло тогда волну политических протестов российского городского класса. Демонстрации и митинги на Сахарова и Болотной, марши и акции, организованные в 2011–2012 годах в Москве, Петербурге и других больших городах России, обозначили ясную угрозу для политической верхушки со стороны «разгневанных горожан».
Консервативный и националистический поворот российского руководства стал стратегическим ответом на эту угрозу. Российские власти противопоставили прозвучавшему требованию права голоса и демонстрации достоинства тезис о величии России, ее особом цивилизационном статусе и миссии по сохранению исторических традиций и православных ценностей. Этот позитивный посыл был усилен тезисом об упадке западной цивилизации, проявлением которого являются господствующие на Западе либеральные ценности и практики, не соответствующие традиционным, ориентированным на семейные ценности нормам, которые были объявлены единственным достойным образцом для подражания. Таким образом, российские политические элиты противопоставили западному либерализму российский национализм, традиционализм и антилиберализм.
Этот набор идей не является идеологией в строгом смысле (в каком идеологией является, например, марксизм) — идеологии обычно системны и в какой-то степени рациональны (хотя идеология фашизма, например, опирается на иррационализм). Концепции и образы, которыми оперируют сегодня в Кремле, не дотягивают до идеологии, но имеют прямое отношение к активному и централизованному конструированию российской идентичности с опорой на идеи и, главное, на коллективные эмоции, которые перенаправляются на врага и используются политическими элитами для собственной легитимации.
Мифология «коллективной жертвы»
Влияние и мобилизационный потенциал конкретных идей измеряются степенью их общественного резонанса. Разные идеи затрагивают людей с разной интенсивностью, в зависимости от того, как они резонируют с индивидуальным жизненным опытом, жизненными потерями и достижениями, стремлениями и чаяниями. С этой точки зрения ключевой идейный пакет, к которому российская общественность отнеслась с наибольшим пониманием и откликом, — это идея «коллективной жертвы». В последние десять-пятнадцать лет «идейные предприниматели» Кремля легитимировали свое политическое руководство, опираясь на чувство коллективной травмы, связанной с посткоммунистическим переходом 1990-х годов.
Негативные коллективные эмоции, связанные с социальной неустроенностью, экономическими лишениями и нестабильностью, утратой советского чувства величия и исключительности, а также негодование по поводу растущего неравенства, коррупции и несправедливости, с помощью идеи «коллективной жертвы» были направлены на «другого». Когда есть «коллективная жертва», всегда появляется образ «преступника», того, кто несет ответственность за нанесенные травмы. В России образ этого ответственного за все «другого» (преступника) конструировался вокруг представлений о «Западе», «глобальном капитализме», США и переносился на их российских «представителей» — олигархов, либеральных реформаторов и прочие либеральные голоса.
Идея России как «коллективной жертвы» стала основанием политики ресентимента, опирающейся на чувства озлобленности, унижения и беспомощности, которые перевоплощались в агрессию и злорадство в отношении врага («другого»), того, кого воспринимали как источник всех зол.
Российские элиты не были изобретателями идеи «коллективной жертвы» и политики ресентимента. На самом деле, любая политика идентичности имеет значительные шансы перерасти в мифологию «коллективной жертвы», политику ресентимента и дальнейшее скатывание к экстремизму и насилию. Такие шансы велики, но их реализацию можно предотвратить. Мартин Лютер Кинг, знаменитый лидер движения за гражданские права в Соединенных Штатах (и один из создателей политики идентичности в современном ее понимании), осознавал опасность принятия позиции жертвы и призывал к личной ответственности, зрелости и самокритике. Борьба за коллективное признание должна основываться на вере в себя, а не на агрессивном поиске признания извне. Эволюция движения за гражданские права в Соединенных Штатах продемонстрировала, что уклонение от мифологии «коллективной жертвы» и, следовательно, с вероятностью вытекающих из ее принятия призывов к насилию — непростая задача. Движение «Нация ислама» Элайджи Мухаммеда и черный национализм Малкольма Икс представляли собой более наполненные расовой нетерпимостью формы движения за гражданские права.
Стратегическая деполитизация и военная мобилизация
Таким образом, в отсутствие морального императива (подобного тому, о котором говорил Кинг) российская политика идентичности продвигала логику «коллективной жертвы» на национальном уровне и привела к прогрессирующей эскалации конфликта России с Западом, этапами которой стали сначала аннексия Крыма и война на востоке Украины, а затем и полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, которое в свою очередь стало кульминацией развития тех идей, которые пропагандировались и продвигались Кремлем и его спикерами в течение предыдущего десятилетия.
Это трагическое и безответственное решение, ставшее возможным в условиях персоналистской автократии, довело политику идентичности в российском стиле до последней черты, превратив Россию в страну, противостоящую «коллективному Западу» и Украине, которая, согласно российской пропаганде, контролируется националистическими и фашистскими силами и в конечном счете западными элитами. Эта пропагандистская риторика скрывает за собой реальность настоящей войны против свободы соседней страны, которая раньше была неотъемлемой частью советской, а до этого — частью российской империи. Советские флаги, установленные на вновь оккупированной российскими войсками территории, являются ярким отражением империалистического характера этой войны.
Хотя политика ресентимента и идея «коллективной жертвы» находили значительный отклик в стране, развязанную сейчас войну большинство россиян было вынуждено принять как данность, которую они не могут изменить. Их эмоциональная вовлеченность в мифологию «коллективной жертвы» вовсе не означала, что они поддержали бы решение Путина о вторжении (если бы с ними посоветовались). Но реальность войны, навязанная сверху, навязывала новые императивы как правящим элитам, так и народу.
Многие из тех, кто не соглашался и мог покинуть страну, бежали. Однако у большинства не было такого выбора, и они вынуждены были заимствовать из российских СМИ риторические средства и идеи для оправдания своей позиции пассивного принятия войны или даже более активной, риторической ее поддержки. Позиция усвоенной пассивности и дистанцирования от тяжелой информации о преступлениях российских войск, гибели мирных жителей и разрушениях в Украине обозначает еще один важный аспект дискуссии об идейных основаниях современной российской политики. Стратегическая деполитизация российского общества — еще одна важная опора, дополняющая идею «коллективной жертвы». Кремлевская пропаганда уже давно продвигает идею, что политика — это грязное дело, призывая людей оставить эту сферу доверенному лидеру, который уже повысил международный статус России и продемонстрировал свое внимание к социальным проблемам страны.
Недавнее решение об объявлении мобилизации в России в какой-то степени опирается на этот столп деполитизации. Ожидается, что российские граждане с готовностью воспримут призыв к защите отечества. Но также очевидно, что это решение идет вразрез с формировавшимися ожиданиями: «вы там, наверху, делайте политику, но позвольте нам жить». Поэтому общественная реакция на мобилизацию будет различаться в зависимости от того, на какую из двух идейных основ в большей степени опирается обыватель. Если в общественном сознании сильнее резонирует политика ресентимента и коллективной жертвы, то идея защиты родины от врага будет выглядеть приоритетной. Если доминирующей установкой являются деполитизация и отмежевание от государства, то, скорее всего, «возвращения в политику» через личное участие в военных действиях не произойдет. Мобилизация будет порождать широкое недовольство и стремление уклониться от призыва, хотя давление общественного мнения и кодекса мужской чести, конечно, будут склонять баланс в другую сторону.
В ожидании альтернативы
Империалистический характер войны, которую Россия ведет в Украине, также опирается на идеи исключительности России, русской культуры и цивилизации, которые внедрялись в общественное сознание с начала консервативного поворота 2012–2013 годов. Подобные войны за сохранение колоний также хорошо знакомы нам из прошлого, что позволяет извлечь некоторые уроки из их истории.
Прогрессивное, антивоенное и антиимпериалистическое гуманистическое мышление Жан-Поля Сартра и его выступления в поддержку независимости Алжира в то время, когда Франция была вовлечена в империалистическую войну, становятся сейчас поводом для размышлений об идейных основаниях альтернативных политик, которые могут быть востребованы в России (если не сегодня, то завтра). Подобно Кингу, Ж.-П. Сартр исповедовал индивидуальную свободу воли и моральную ответственность. И эти идеи являются полной противоположностью идеологии «коллективной жертвы», которую сегодня исповедуют правящие элиты России.
Хотя борьба против «внутренней колонизации» афроамериканцев в Соединенных Штатах и деколонизация Франции, возможно, еще не полностью завершена, прогресс в обеих странах очевиден и неоспорим. Борьба против внутренней колонизации граждан России была подавлена, не успев начаться.
На данный момент может казаться, что нет места для альтернативных идей. Однако уже сегодня совершенно ясно, что политика «коллективной жертвы» и ресентимента привела Россию к обрыву, и вот уже больше шести месяцев мы наблюдаем падение страны в пропасть. Рано или поздно России потребуются свои собственные Мартин Лютер Кинг и Ж.-П. Сартр, а также новая политика и идеи, поддерживающие нравственное возрождение, личную ответственность и отказ от насилия во всех аспектах жизни, будь то внутренние или международные, политические, экономические или социальные, семейные или индивидуальные.
Читайте также
 Нынешний этап идеологической экспансии государства призван, с одной стороны, окончательно исключить и «отменить» либеральную часть российского общества, а с другой — изменить идентичность той его части, которая впитала идейный оппортунизм 2000-х, в свою очередь нивелировавший ценностный багаж и либеральные устремления перестроечной и постперестроечной эпохи.
Нынешний этап идеологической экспансии государства призван, с одной стороны, окончательно исключить и «отменить» либеральную часть российского общества, а с другой — изменить идентичность той его части, которая впитала идейный оппортунизм 2000-х, в свою очередь нивелировавший ценностный багаж и либеральные устремления перестроечной и постперестроечной эпохи.
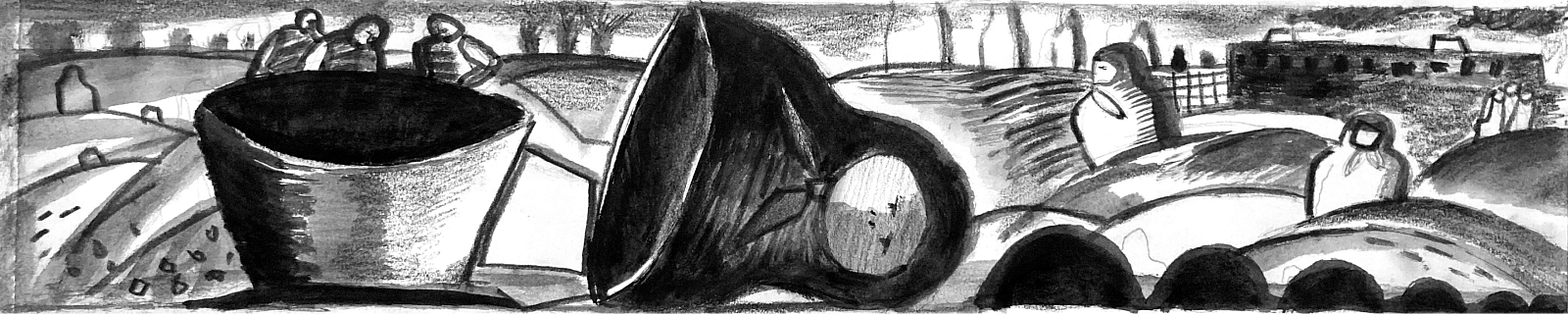 Почему путинизм (еще) не является идеологией
Обычно идеологии создают своего рода карту политики, с помощью которой можно понять, в каком направлении движутся политические процессы, но Путин долго и успешно избегал идеологической определенности, что позволяло ему сохранять политическую интригу вокруг своих ключевых решений. Эта черта режима сохраняется и сегодня: Кремль не может ни объяснить причины и цели войны с Украиной, ни обеспечить идеологическую мобилизацию в ее поддержку.
Почему путинизм (еще) не является идеологией
Обычно идеологии создают своего рода карту политики, с помощью которой можно понять, в каком направлении движутся политические процессы, но Путин долго и успешно избегал идеологической определенности, что позволяло ему сохранять политическую интригу вокруг своих ключевых решений. Эта черта режима сохраняется и сегодня: Кремль не может ни объяснить причины и цели войны с Украиной, ни обеспечить идеологическую мобилизацию в ее поддержку.
 Есть ли у путинского режима идеология?
Идеология путинского режима устойчива, поскольку отвечает на существующий запрос населения, опирается на глубоко укорененную советскую традицию и в то же время заполняет идеологический вакуум, возникший после распада Советского Союза. Она поможет путинскому режиму сохранить жизнеспособность на многие годы.
Есть ли у путинского режима идеология?
Идеология путинского режима устойчива, поскольку отвечает на существующий запрос населения, опирается на глубоко укорененную советскую традицию и в то же время заполняет идеологический вакуум, возникший после распада Советского Союза. Она поможет путинскому режиму сохранить жизнеспособность на многие годы.



