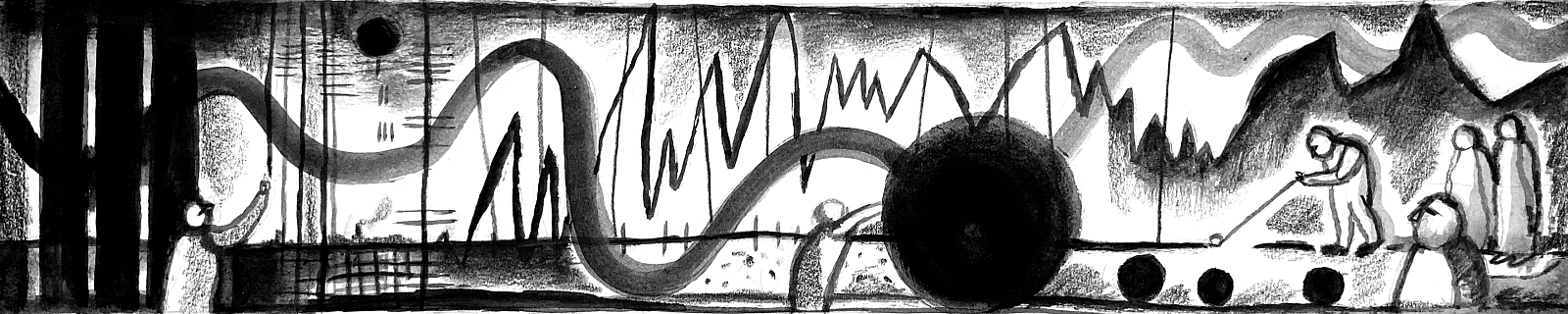
Социология участия и неучастия: к спору Юлии Галяминой и Кирилла Мартынова
Полемика об отношении к участникам не оборонительных, не вполне легитимных или откровенно захватнических войн возникала неоднократно. Две предельные точки зрения рассматривают их либо как «соучастников преступления», либо как «жертв» — заложников ошибочных или преступных решений политиков.
Однако во внутриполитической перспективе авторитарной страны, которая такую войну ведет, в том числе сегодняшней России, это не только и не столько вопрос нормативного суждения, сколько поле скрытых и открытых политических противостояний, вовлекающих разные страты общества и отражающих разные стратегии их адаптации к реалиям не только внешнего, но и внутреннего, гражданского конфликта и сопутствующих ему репрессий.
Российское общественное мнение расколото в вопросе отношения к «участникам СВО» между тремя основными паттернами: агрессивно навязываемой режимом нормой восприятия их как «героев», реинкарнации ветеранов Великой Отечественной; паттерном «жертвы», снимающим с них ответственность; и взглядом на них как на «наемников», преследующих прежде всего меркантильные цели.
Борьба за доминирование того или иного взгляда — это во многом борьба за реальную оценку войны «обывателем» в условиях цензуры и авторитарного прессинга. И борьба за «воображаемое большинство» нации — мыслит ли оно себя участником или неучастником, уклонистом в этой войне.
И совершенно правильное суждение о границах «ответственности» может оказаться совершенно бесполезным в контексте этой борьбы, которую те, кто находится внутри этого социального «котла», вынуждены и будут вести вне зависимости от того, что о ней думают те, кто в некоторых отношениях оказался снаружи него.
Угли гражданской войны
Полемика политика и ученого Юлии Галяминой, живущей в России, с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым, заочно приговоренным в России к заключению, бурлит уже вторую неделю. Если очень огрублять общий контур спора, то Галямина выступает с позиции, допускающей взгляд на участников вторжения скорее как на жертв, вовлеченных в это преступление, которое принесло им в итоге физические и моральные увечья, в то время как Мартынов подчеркивает их личную и коллективную ответственность за участие в захватнической преступной войне. Войне, которая, как справедливо указывали и сам Мартынов, и некоторые другие участники полемики, не получила в России публичного осуждения, а вовсе даже наоборот.
Продолжать полемику «за Галямину» или «против Галяминой», по-моему, не имеет особого смысла, и еще более плоским становится этот смысл, когда спор скатывается к экзальтированному противопоставлению «уехавших» и «оставшихся». Вопрос об ответственности нации за действия деспотического режима имеет давнюю историю, и с большинством прозвучавших аргументов морального и юридического плана трудно не согласиться. В то же время социальное и политическое содержание проблемы остается, на мой взгляд, не вполне проговоренным.
Вопрос об отношении к «участникам СВО» — это отнюдь не только спор Галяминой и Мартынова, их сторонников и противников. Это еще и центральный вопрос актуальной российской политики и важнейший вопрос, стоящий сегодня перед российским обществом в самом широком смысле этого слова. Это, можно сказать, средоточие социальных и политических расколов внутри России, актуальных и потенциальных, и в каком-то смысле — «передовая» латентной гражданской войны, тлеющей внутри страны.
В своем последнем разъясняющем посте Юлия Галямина непосредственно подходит к обсуждению вопроса в социально-политическом измерении. «На днях я ехала в поезде с военным, — пишет она, — который участвовал в СВО (хотя на передовой не был). Мы начали с его позиции о том, что если бы „мы не напали, то на нас бы напали“, но через мое понимание (сочувствовать ему не надо было, у него все было неплохо) он пришел к идее, что „на самом деле, по-настоящему все это поддерживает 1–2 процента людей, уж точно не я“». Эта зарисовка в жанре «домашней социологии» возвращает нас от уровня этической и юридической нормативности к социальной и политической реальности сегодняшней России и обозначает по крайней мере часть тех социальных и идейных парадоксов и контроверс, которые составляют ее ткань.
«Наши мальчики»
Здесь стоит отступить на несколько шагов назад и сказать, что Юлии Галяминой принадлежит одна из, на мой взгляд, самых существенных статей по теме идеологических дискурсов российского общества военного времени (→ Галямина: Пять дискурсов вокруг войны).
Каждый из двух базовых дискурсов — «провоенный» и «антивоенный» — ко второму году войны разделился на две вариации, пишет Галямина. Провоенный распался на «официоз», подразумевающий поддержку войны и развязавших ее властей, и «военкоровский», предполагающий поддержку войны при критическом отношении к «властям» и Путину. В то время как «антивоенный» дискурс разделился на «проукраинский», склонный возлагать ответственность за войну на Россию и ее население в целом, и «антипутинский пацифизм», склонный возлагать ответственность на Путина и узкую коалицию милитаристов вокруг него и стремящийся мобилизовать, таким образом, новое антивоенное и антипутинское большинство.
Еще в 2023 году «антипутинский пацифизм» вполне мог выражать себя в модальности «наши мальчики», отсылающей, в частности, к паттернам антивоенного движения в США времен Вьетнамской войны. В этом ракурсе участвующие в войне солдаты рассматривались как заложники решений политиков — как «жертвы», вынужденные выполнять вытекающие из этих решений приказы. Историк Иван Курилла проницательно замечает в связи с этим, что с точки зрения «нормального большинства» почти в любой стране армия, воинская присяга и воинский долг, так же как и предполагаемое ими единоначалие, являются элементом базовых представлений о государственном порядке, а разрушение этих институтов и этого порядка воспринимается как крайне опасное. Поэтому, добавим, призывы к неподчинению приказам обычно остаются — во всяком случае, в течение очень долгого времени — уделом маргинальных и радикальных общественных групп, в то время как «большинство» видит в них угрозу тотальной дестабилизации и открытой гражданской войны.
В 2023 году большинство участников войны с российской стороны составляли те, кто попал на нее в первой волне вторжения, то есть служил изначально в армии еще не воюющей России, те, кто был мобилизован в конце 2022 года, а также не слишком большое число распропагандированных мифами о борьбе с неонацизмом и защите мирного населения Донбасса «добровольцев» плюс пригожинская «тюремная армия». Если оставить в стороне высокоэтичные, но политически маргинальные призывы к «неподчинению преступным приказам», это большинство вполне вписывалось в паттерн «жертвы», определявший взгляд американских пацифистов на участников Вьетнамской войны и знакомый российскому обществу по опыту осмысления войны в Афганистане, которую также вела подневольная призывная армия.
Герои — наемники — жертвы
Однако сегодняшняя ситуация весьма далека от 2023 года. Сегодня большинство участников войны составляют те, кто отправился на нее за значительное вознаграждение. Какие бы мотивы ими ни руководили и какие бы объяснения они сами ни давали, эти люди, безусловно, во-первых, имели в виду это вознаграждение и, во-вторых, знали, что оно так высоко как раз потому, что без него, на основании «идейных соображений», большинство российского общества не хочет участвовать в этой войне. (Встречаются, впрочем, и достаточно сложные мотивировки: некоторые немолодые мужчины объясняют свое участие в войне стремлением «завершить» ее, пусть и ценой своей жизни, предотвратив таким образом угрозу новой мобилизации, под которую могут попасть их дети.)
При том что среди участников войны есть немалая часть тех, кто попал на нее и остается на ней не по своей воле (остатки контингента первой волны и мобилизованных, а также не выдержавшие давления в различных жизненных обстоятельствах), большинство ее участников сегодня — это наемники в институциональном и содержательном смысле слова.
В социальном отношении из этого обстоятельства проистекают три не сразу очевидных следствия. Во-первых, паттерн «наши мальчики» уже не очень работает (применим к меньшинству «участников СВО»), причем, что особенно важно, не слишком релевантным он выглядит и для самого российского общества. Во-вторых, среди самих участников войны — добровольных наемников — на разных уровнях ценностно-идеологической идентичности отношение к «СВО» может быть далеко не однозначным (именно такого рода пример являет «разговор в поезде» Юлии Галяминой). В-третьих, отношение российского общества к участникам войны в целом, мягко говоря, неоднозначно.
Между теми, кто подписал контракт (и их семьями, получившими соответствующие блага), и теми, кто не подписал (а это абсолютное большинство населения), лежит невидимая граница. Особенно ощутимая в тех самых депрессивных стратах, которые поставляют бóльшую часть нынешних «участников СВО» и для которых материальный фактор особенно значим. Это хорошо видно в соцопросах. Около 40% респондентов в России считают, что основным для подписавших контракт был меркантильный мотив, и лишь четверть полагает, что это было чувство долга. Еще 30% полагают, что присутствовали оба мотива (данные опроса проекта «Хроники»). С учетом вероятной смещенности опросной выборки в сторону большей лояльности в условиях репрессивного климата мнений можно говорить о том, что доминирующий взгляд на участников войны в России скорее не признает за ними гражданского и патриотического капитала или полагает его лишь «дополнительным обстоятельством».
Опрос «Левада-центра» показывает, что в российском обществе отчетливо присутствуют три паттерна отношения к «участникам СВО»: паттерн героизации, паттерн сочувствия, осмысляющий их как жертв, и паттерн дегероизации, видящий в них «наемников», которым свойственны скорее жестокость и цинизм. С первым были связаны 40% ответов респондентов опроса, со вторым — около 30%, и с третьим — 20% (→ Re: Russia: Герои — наемники — жертвы). Еще один вопрос «Левада-центра» показывает, что 40% респондентов видят в «участниках СВО» потенциальный источник угрозы, ожидая с их возвращением «рост преступности и конфликтов».
Даже не вспоминая о вероятной смещенности и этой выборки (а помнить об этом следует), ясно, что отношение к участникам войны — предмет существенного раскола внутри российского общества. Раскола, отражающего, в общем, сложную многофакторную структуру его отношения к войне в целом.
«Герои СВО» на линии внутреннего фронта
Именно это обстоятельство и сделало этот вопрос столь острым в России, превратив его уже сегодня в арену политической борьбы. Официальный дискурс и политика Кремля требуют видеть в «участниках СВО» «героев», равных героям Великой Отечественной войны, и преследуют сопротивление и открытое противодействие такому нормативному взгляду.
В глазах Путина «участники СВО» — его главная социальная и историческая гвардия. Демонстративное продвижение их на всех этажах социальной лестницы должно не позволить молчаливому большинству с его уклонизмом и сомнениями относительно целей и издержек войны артикулировать или воспринять дискурс ее переосмысления как бессмысленной и ведущей почти исключительно к потерям. Кровно заинтересованные в моральном оправдании своих бенефитов и карьерных преимуществ, «герои СВО» должны чутко стоять на страже своего статуса и пресекать любые попытки подобной ревизии, формируя при этом представление об обязательном дискурсе социального успеха.
К ним парадоксальным, на первый взгляд, образом должны присоединиться семьи погибших на войне, которые также будут заинтересованы в моральном и политическом оправдании выбора их мужчин пойти на войну (очень часто — общего семейного выбора). Отсутствие такого морального оправдания они справедливо подозревают во многих своих соседях по подъезду и коллегах по работе, семьи которых сознательно уклонились от этого брутального гешефта и потому не испытывают ни малейшего социального пиетета к тем, кто на него пошел. Путин становится таким образом для родственников погибших источником не только материальной, но и моральной поддержки. И по этой причине они будут направлять свой «гнев потери» не против него, а против противников войны.
В то же время другая часть общества справедливо подозревает в прославлении «героев СВО» и искусственном уподоблении их героям Великой Отечественной прямую атаку против себя. Попытку принудить себя присягать этой войне снова и снова и наказать за тот «уклонизм», который был выбран ими в качестве стратегии социального выживания в годы войны.
В такой перспективе паттерн восприятия участников войны как «жертв» становится тем более нерелевантным для значительной части общества. С точки зрения Путина, «герои СВО» — скорее инструмент продолжения войны, инструмент ее проекции во внутреннюю политику и внутреннюю общественную жизнь, где, как он справедливо подозревает, существует широко распространенное убеждение в том, что война является его ошибкой, и вполне взрыхлена почва для восприятия ее как устроенной им большой трагедии. В то время как для той части общества, против которой направлено их нарочитое продвижение, — они угроза, а не жертвы.
Еще один железнодорожный тест: сколько в России «участников войны»?
Целью этого текста не является решить, какой взгляд на участников войны — Галяминой или Мартынова — является более правильным. Юрист говорит одно, священник — другое. Мартынов совершенно справедливо и весомо говорит: сначала покаяние — потом сочувствие. Галямина говорит: сочувствие — путь к обращению и покаянию.
С моей точки зрения, вполне легитимным и справедливым является украинский взгляд, возлагающий ответственность за войну на всех русских. Этот взгляд вполне соответствует и масштабам обрушенного на Украину российским вторжением горя, и мобилизационным задачам украинского общества. Однако уже в европейской перспективе такой взгляд не выглядит столь убедительным. Он вступает в противоречие и с европейскими идеями толерантности и свободы выбора, которая ограничивает концепцию коллективной ответственности, и с большой историей участия России в европейской жизни и культуре. Искусственными выглядят и противопоставление российского общества Путину, и полная редукция его к военному путинизму.
Во внутрироссийской перспективе отношение к «участникам войны» — не вопрос нормативного суждения (к сожалению), но поле скрытых и открытых политических противостояний и борьбы, вовлекающей разные страты и группы общества и отражающей множественность стратегий адаптации к реалиям внутреннего гражданского конфликта и репрессий. И здесь внезапно главным оказывается вопрос: а кто такие «участники войны» и сколько их?
Один из комментаторов Галяминой написал, что участников войны слишком много и хотя бы поэтому придется как-то объясняться с ними и договариваться. Но так ли их много в численном отношении? Три-четыре миллиона с учетом большого отряда тех, кто, как герой зарисовки Галяминой, никогда не был на передовой, но охотно ходит в военной форме и в то же время — при смене контекста — готов «переосмыслить» «СВО», переложив ответственность за нее на «1–2%» ее реальных интересантов и сторонников, к которым сам, по его словам, не относится.
«Железнодорожный тест» Галяминой указывает нам на то, что в социологическом смысле «участников войны» может оказаться очень-очень много при одной констелляции общественных настроений (например, когда «участники» воспринимаются как реинкарнация ветеранов Великой Отечественной или когда господствует аргумент «Если бы мы не напали, на нас бы напали») и очень-очень мало, 1–2%, при другой. Это в значительной степени зависит от того, какой реакции окружающих на факт своей «причастности» люди ожидают.
Борьба за ту или иную констелляцию этих настроений отнюдь не окончена, и участвует в ней отнюдь не только «антивоенное меньшинство», но и большие отряды тех самых «уклонистов», которые, сознавая свою неспособность выиграть в этой борьбе, стремились сохранить себя неучастием в ней и которых призван дисциплинировать и привести к присяге войне культ «героев СВО». А потому совершенно правильное суждение о границах «ответственности» может оказаться совершенно бесполезным в контексте этой борьбы, которую те, кто внутри этого социального «котла», вынуждены и будут вести вне зависимости от того, что о ней думают те, кто в некоторых отношениях оказался снаружи него.
