
Нацификация денацификации
Оправданно ли сравнение российского режима с фашизмом?
Нападение на Украину поставило режим Владимира Путина перед новыми вызовами. Прежде всего — перед необходимостью оправдания агрессии и, соответственно, перед необходимостью более глубокой и экспрессивной проработки и переработки тех идеологем, клише и нарративов, которыми обосновывался его курс в последние годы. Полномасштабная военная агрессия против соседней страны из этих идеологем и нарративов никак не вытекала.
Насколько можно сейчас говорить о формировании новой «идеологии режима»? Каковы ее координаты и опорные идеологемы? Почти общим местом сегодня стали ее сравнения с фашизмом, но насколько эти сравнения являются содержательной характеристикой, а насколько — частью «войны эмоций»? Почти общим местом стали сравнения идеологии Кремля с фашизмом, но насколько эти сравнения являются содержательной характеристикой, а насколько — частью «войны эмоций»? Что подразумевается под «фашизмом» и какие его элементы и черты обнаруживают себя в «идеологии Z»? Иван Курилла, Григорий Юдин, Марлен Ларюэль, Аркадий Островский и Александр Морозов — в дискуссии о новой идеологии путинского режима.
Историк Иван Курилла, социолог Григорий Юдин, политолог Марлен Ларюэль, журналист и автор книги «The Invention of Russia» Аркадий Островский и публицист Александр Морозов обсуждают эти вопросы в разных, иногда противоположных перспективах.
В то время как Григорий Юдин нащупывает содержательные параллели с фашизмом в трактовке взаимоотношений нации, государства и вождя, Иван Курилла видит здесь лишь косплей нарративов середины прошлого века, Аркадий Островский возвращается к обсуждению фашистско-антифашистской утопии, воплощенной в популярном кинообразе Штирлица, Александр Морозов отмечает, что в случае Путина антизападнический ресентимент не трансформируется в идеологию переустройства мира, а Марлен Ларюэль считает, что отождествление путинского режима с фашистским позволяет Западу воссоздать черно-белую картину мира, характерную для времен прошлой холодной войны, и уклониться от обсуждения внутренних проблем либеральной доктрины, которые сегодня ее ослабляют.
Дискурсивный ремейк
Прежде всего, мне представляется, что использование термина «фашизм» не помогает, а осложняет понимание того феномена, с которым мы столкнулись. При очевидном сходстве некоторых практик, сегодняшний российский режим принадлежит к другому поколению авторитаризма, и ученым нужно выработать собственный язык для его адекватного описания.
Главными отличиями нынешнего варианта авторитаризма являются, по моему мнению, развитое информационное общество и наличие ядерного оружия (и осознание катастрофичности его применения). Если в «классическом» фашизме информация передавалась единым потоком, который контролировался режимом, то в сегодняшнем авторитаризме «времен интернета» поддерживается многоголосица, а государством насаждается цинизм — неверие ни в одну картину мира. Если военная агрессия середины XX века опиралась на уверенность лидеров в собственном военно-экономическом превосходстве над объединенными силами противников, то теперь основной гарантией «непобедимости» является обладание ядерным оружием. Эта гарантия неожиданным образом снизила порог начала войны.
Наконец, мы видим, что война началась не под флагом новой идеологии, а с использованием языка середины прошлого века в ситуации идейной эклектики. Попытки предложить новую символику в виде буквы Z или белой нарукавной повязки не нашли массовой поддержки, в результате чего мы наблюдаем стихийное возвращение советской символики — красные флаги и памятники Ленину. Но современная российская символика не связана с «большой идеей», и за нее нельзя идти воевать против соседей.
Само использование слова «фашизм» в описании режима означает согласие играть в предложенную Путиным дискурсивную игру «провалимся в 1940-е». Российские пропагандисты воюют в Украине с «нацизмом», в ответ сам российский режим называют «фашистским», а Соединенные Штаты принимают закон о «ленд-лизе». Все чаще встречается в речи пропагандистов слово «геноцид», как и отсылки к Нюрнбергскому трибуналу. Но те феномены, к которым отсылают эти наименования, не соответствуют изначальному значению используемых слов.
Интересно проследить связь этого глобального «косплея» середины прошлого века с популярностью движения реконструкторов, которые в 2017 году штурмовали потешный «рейхстаг» и докладывали об успехе министру обороны Шойгу, или с «переименованиями» городов, придуманными волгоградскими депутатами, постановившими в 2013 году в дни памятных дат и праздников называть Волгоград Сталинградом (вслед за Волгоградом аналогичное решение приняли власти ДНР, «переименовавшие» Донецк в Сталино). В общем, неудивительно, что советский флаг снова популярен у части российских элит, а в Думе даже обсуждают его возвращение в качестве государственного флага Российской Федерации.
Надо ли (со)участвовать в этом костюмированном представлении? Мне представляется, этот переход на язык прошлого века лишь затемняет современные реалии и делает более сложной задачей характеристику современного зла. Сказанное не означает, что я знаю лучшие варианты описания или готов предложить новые термины. Я лишь предлагаю не использовать старые, годные для пропаганды, но не для понимания.
Настоящий фашизм
Ключевая особенность исторического фашизма состоит в совмещении (1) государства, (2) народа и (3) вождя в едином векторе (4) политического движения.
- Государство является здесь ключевым — фашизм строится на сакрализации тотального государства, и потому никакие отдельные фашисты или даже фашистские партии не могут создать фашистский режим, пока не захватят государство. Российский бонапартистский режим совершил в феврале резкий фашистский разворот. Резко захлопнулись зоны, свободные от государства. Так, запустилась стремительная идеологизация образования, которое отныне определяется как зона пропаганды (речь не только о лекция по украинской истории в детских садах, школах и университетах, но в первую очередь о резком усилении пропагандистского элемента с нового учебного года). Социальные и гуманитарные науки также потеряли автономию и схлопнулись до пропаганды: темы исследований теперь прямо утверждаются политическими чиновниками. В прочих областях (медицина, полиция, государственная служба и т. д.) автономия также устраняется: не может быть никаких резонов, целей или логики, не соответствующих текущим задачам государства как движущейся машины. Резко возросший уровень насилия в правоохранительных органах показывает, что они поняли сигнал: бюрократическая логика уступает место логике подавления врага/предателя любыми средствами.
- В фашистском уравнении народ всегда равен государству и вождю. Тот, кто противостоит государству и вождю, исключается из народа. До известной степени эта задача была решена уже до февраля (принцип «нет Путина — нет России» работал как матрица формирования регулярной политики, а противники Путина не имели права участвовать в государственном управлении ни в какой форме). Однако в феврале была сделана мощная попытка наполнить фигуру «народа» содержанием. Это было сделано с помощью термина «денацификация», который был резко введен в оборот и определил самоописание российского режима в этой войне. «Денацификация» означает акцент на национальной чистоте, и в этом смысле относится к нацистскому, а не фашистскому воображаемому. Идея декомпозиции украинцев на чистый (русский) и грязный (украинский, нацистский) элементы привела к чисткам, тактике геноцида в Украине (истребление интеллигенции, фильтрационные лагеря, исследование украинских тел). Она же была обращена и внутрь: требование очищения народа через «выплевывание» нечистого преследует цель определения народа. Фашистская эстетика внутри России (складывание полусвастики из человеческих тел, в особенности детских тел и тел, стоящих на коленях, в униженном положении) вносит совершенно новый для современной России опыт принадлежности к народу через телесный символизм. Следует также внимательно следить за информацией об угрозах заражения («биолаборатории») со стороны Украины, поскольку она усиливает восприятие чужого как инфицирующего, нарушающего чистоту народного тела.
- Отсутствие культа личности в России — важная особенность российского фашизма. Однако она не должна заслонять главного — тотальной символической идентификации лидера с народом и государством. Плебисцитаризм/бонапартизм также строится на «принципе фюрера», на идее репрезентации исторического выбора народа в решениях фюрера. Как и в Германии 1930-х, принцип фюрера приводит к мутации бонапартизма в тотальное государство. Впечатляющая трансформация, происшедшая с властью Владимира Путина в феврале, связана с ролью насилия в его системе правления. Легендарное заседание Совета безопасности — беспрецедентный памятник организации власти через насилие. Представление о правящей Россией «клике» нуждается в явной корректировке: фюрер просто откровенно унижает и терроризирует свое ближайшее окружение (которое наверняка поступает так же со своими подчиненными).
- Движение — самый противоречивый момент российского фашизма. Бонапартизм базируется на пассивности, и фашизация требует активации масс. Однако вся левая критика, начиная с Адорно и заканчивая Арендт, подсказывает, что именно из пассивной массы возникает идеальный субстрат для фашизации. Циничная, замкнутая на приватную жизнь, привыкшая к власти обыденного насилия масса легко переключается в фашистский модус. Вопреки предубеждениям, это не требует от нее внезапно «поверить» в идеологию: фашизм — это висцеральный, соматический феномен. Он движим страхом: люди фашизируются не потому, что вдруг уверовали в величие арийской расы, а потому, что им чудовищно страшно и они чувствуют, что если не убьют кого-то, то могут оказаться убитыми сами. Захват государства 20% маргиналов в условиях отсутствия структур солидарного сопротивления в обществе быстро переключает еще 50% в фашистский режим, после чего оставшиеся 30% оказываются удобной жертвой.
Достаточно очевидно, что никакого низового запроса на фашизацию в России не было. Однако Илья Будрайтскис обращает внимание на то, что в условиях позднего капитализма государство может само брать на себя функцию генерации низового движения и как бы «спускать» фашизм на общество сверху.
Случится ли это в России в полной мере — пока не очевидно. В целом фашизация дает результаты (резкий рост числа доносов, резкий рост бытового насилия, инициативная поддержка агрессивной войны). Однако для немолодого Владимира Путина полицейский режим управления, построенный на гиперконтроле, всегда был более комфортен. Для него, ненавидящего народ и не доверяющего никакому спонтанному коллективному действию, довериться энергии масс — наверняка тяжелое и некомфортное решение. Возможно, окончательное переключение в фашизм потребует устранения Путина. До тех пор мы будем наблюдать российское общество в полупозиции.
Главная аналитическая выгода от характеристики российского режима как фашистского состоит в том, что это позволяет сформировать правильные ожидания. Это не «авторитарный режим» из политологических книжек, он не будет «с вероятностью Х%» сохраняться, изменяться или «демократизироваться». Это фашистское движение, движимое империалистическими импульсами и настроившее государство на тотальную войну. Оно не остановится до тех пор, пока не подчинит себе всю Европу либо не потерпит абсолютное поражение.
Перформанс фашизма
Повторный опрос ВЦИОМ, проведенный двадцать лет спустя, показал, что Штирлиц поднялся в рейтинге персонажей-президентов на первую позицию. Как пояснил ВЦИОМ, «произошла своеобразная инверсия: если в 1999 году Путин выглядел предпочтительным кандидатом, поскольку был похож на Штирлица, то в 2019-м образ Штирлица остается актуальным потому, что его реализует самый популярный политик страны — Путин».
Существенно, что «Семнадцать мгновений весны», фильм об обаятельных фашистах в исполнении любимых советских актеров (чего стоил один Олег Табаков), был заказан Юрием Андроповым для привлечения молодых кадров в КГБ СССР. Фильм с аудиторией 80 миллионов зрителей, кажется, не скрывал восхищения и зависти к нацистской форме (пошив Министерства обороны СССР), которая как влитая сидела на советском разведчике.
Как писал Дмитрий Пригов, «наш замечательный Штирлиц замечательным образом являет одновременно идеального фашистского и идеального советского человека, совершая трансгрессивные переходы из одного в другой с покоряющей и неуследимой легкостью… Он предвестник нового времени — времени мобильности и манипулятивности».
Мобильность и манипуляция образов, легкость перевоплощения советского разведчика в нацистского офицера в полной мере проявились в первые же дни войны против Украины. Война, начатая под флагами советской победы во Второй мировой войне, оформляет и описывает себя знаками и словами, отсылающими к эстетике немецкого нацизма в гораздо большей мере, чем к советским канонам.
Визуальная и акционистская стилистика российской пропаганды — брызжущего слюной Соловьева в черном кителе, Ольги Скабеевой с ее подчеркнуто «арийскими» чертами и металлом в голосе, буква Z во всех ее вариантах, отрезанная голова свиньи, подброшенная под дверь Алексею Венедиктову, — вызвала бы оторопь у советских партийных начальников, но вполне встраивалась в стилистику КГБ. (Александр Николаевич Яковлев, один из главных политических деятелей постсталинской эпохи, открыто выступавший против шовинистского крыла партии и возглавивший демократические реформы конца 1980-х, считал, что именно КГБ был рассадником русского фашизма.)
В советские годы КГБ был связан идеологией марксизма-ленинизма, хотя и относился к ней с большой долей цинизма. Однако дистанцируясь и избавляясь от партийной идеологии, его наследники превратились в служителей культа государства (дававшего им, впрочем, возможность бесконтрольного обогащения). Фашизм с его культом государства был снят с полки как наиболее подходящий наряд. Штирлиц и являет собой символ этого общего фашистско-антифашистского культа.
Вальтер Беньямин писал, что логический результат фашизма — введение эстетики в политическую жизнь. И главным эстетическим опытом фашизма была, безусловно, война. Эстетизация войны — строительство храма войне, реконструкция помпезного и мрачного сталинского парада победы, резко контрастировавшего с всенародным ликованием 9 мая — несущая конструкции нынешнего путинизма.
Война, начатая 24 февраля 2022 года, была, очевидно, задумана как сиквел аннексии Крыма, который решал бы проблемы снижающейся легитимности и нарастающих поколенческих и экономических противоречий. Как Гитлер объяснял Геббельсу весной 1943 года, «война позволяет решить целую серию проблем, которые невозможно было бы решить в обычное время».
«Перформанс» фашизма начался одновременно с аннексией Крыма и первой фазой войны против Украины. Бесноватые «анти-Майданы» в Москве, шествия нанятых накачанных людей по центру Москвы с фотографиями «национального предателя» Немцова, возглавившего в тот момент антивоенное движение, были частью этого «перформанса». Полномасштабная война против Украины потребовала его радикализации. Таким образом, не война была следствием фашистского движения, а фашистский «перформанс» был оформлением войны.
«Перформанс» фашизма осуществляется в основном посредством телевидения, предполагающего пассивность (диванность) масс. Мы не наблюдаем массового экстаза и мобилизации. Путин не является харизматичным лидером: его попытки выступать на стадионах выглядят неубедительно. В отличие от немецкого фашизма, путинский режим в качестве символического материала выбирает не молодое поколение или «человека труда», а пожилых и детей — «бабушку» с флагом и ее «внука» Алешу. Идеальных зрителей и статистов телешоу.
Как говорил Немцов в своем последнем интервью: «Сам Путин не фашист. Он просто цинично использует некоторые элементы прошлого, смешивает их с другими — например, с советскими традициями — и рождается гибрид, современный гибридный фашизм… А гибриды чрезвычайно устойчивы».
Это не фашизм: почему это важно
Литература о фашизме чрезвычайно обширна и имеет давние традиции, но я отталкиваюсь здесь от [классического определения Роджера Гриффина](https://brill.com/view/journals/fasc/1/1/article-p11.xml?language=en.), согласно которому базовым здесь является миф о возрождении нации, формирующий «фашистское» видение мира и общества, а потому фашизм лучше всего определить как идеологическую систему, прославляющую национальное возрождение посредством войны.
Поэтому главным элементом, который делает сегодняшнюю Россию не подходящей под определение «фашистской», является для меня полное отсутствие общественной мобилизации в поддержку проекта возрождения нации через войну. Российский режим скрывает войну и даже грозит пятнадцатью годами тюремного заключения тем, кто называет «специальную военную операцию» войной. Он никоим образом не превозносит войну публично и не развивает нарративы прославления насилия как способа возрождения нации. Он стремится избежать широкомасштабной мобилизации мужчин и призывников. Он не верит в насилие как механизм tabula rasa, создающий нового человека и новый мировой порядок.
Так что же тогда собой представляет сегодняшняя Россия? Это все более авторитарный, персоналистский, патримониальный и империалистический режим, но не прибегающий к мифу мобилизации/регенерации нации и предпочитающий, наоборот, чтобы его граждане оставались демобилизованными и пассивно поддерживали его.
Есть, впрочем, и другие черты нынешней России, которые не подходят под определение фашизма. Здесь отсутствует систематическое насилие против заявленного «врага» внутри самой России. В то время как российская армия демонстрирует полное пренебрежение гражданским населением на поле боя, совершает многочисленные военные преступления и потенциальные преступления против человечности, такие как убийства и изнасилования, мы не наблюдаем никакого насилия, направленного против украинцев, живущих в России. Отсутствует идеология уничтожения всего этнически украинского в России помимо идеи уничтожения Украины как государства. При том что с начала войны часть российского политического истеблишмента демонстрирует отчетливые признаки восточнославянского империализма, это не ведет, однако, к отрицанию мультиэтничности самой России и идеологии этнического превосходства русских. Все эти особенности также говорят о том, что случай России не соответствует определению «фашизма».
Почему же так много политиков, публичных интеллектуалов и часть исследователей обращаются к мантре «русского фашизма»? Потому что это имеет политический смысл. Во-первых, это создает образ России как абсолютного Другого для Запада и демократии, как безнадежного случая, неизбежным результатом последних двух или трех десятилетий истории которого с самого начала являлось вторжение в Украину. Такое ретроспективное прочтение нынешней войны как неизбежности стирает любую историческую неопределенность, равно как и ответственность самого Запада за те или иные решения, обернувшиеся в итоге стратегическим тупиком и сползанием к войне.
Во-вторых, превращение России в абсолютного Другого помогает укреплять зеркальный образ Запада как «свободного мира», противостоящего тоталитаризму, и возвращает нас к бинарности холодной войны. Оно восстанавливает черно-белую картину идеологического противостояния, в которой «Запад» выступает как представитель «сил добра», и подразумевает, что картина этой новой решительной битвы автоматически восстановит легитимность либерализма, избавив его от необходимости искать ответы на те внутренние вызовы, которые его ослабляют.
И в-третьих, оно подразумевает, что война должна закончиться полным поражением и полным унижением России. То есть таким исходом, который представляется в реальности не только труднодостижимым, но и неточным в своем целеполагании, а потому опасным, и который призывает к максималистскому решению проблемы и предельно завышает ожидания, а следовательно, и формирует риски последующего глубокого разочарования.
Торжество ресентимента
Описание этого режима через «неофашизм» или «неосталинизм» носит публицистический характер. Это вполне оправданно с точки зрения борьбы с угрозами, которые создает режим Путина. Но если смотреть политологически, то ситуация, скорее, напоминает вступление Ирака в ирано-иракскую войну. Изменился ли политический режим Хуссейна в результате войны? Нет, он остался тем же баасистским режимом, с той же идеологией, с тем же характером принятия решений, с той же моделью работы аппарата и т. д.
Идеологический репертуар путинского режима очень беден. Есть корпус риторики и символики. Весь этот контур сложился задолго до войны. В сущности, вся риторика стоит на одной теме: «Россия защищается от гегемонии/агрессии/коварства Запада». В отличие от нацизма или сталинизма путинская модель не предполагает ни «создания нового человека», ни масштабных альтернативных культурных форм, ни культа «возвращения к античности». Идеологическая схема путинизма покоится исключительно на «обиде на Запад». Иначе говоря, путинизм использует топливо ресентимента, то есть смеси «обиды и величия», как и нацизм, но в отличие от исторического межвоенного фашизма в Европе для этого топлива у Кремля очень слабый движок.
Идеология Z, как мы ее видим на этом этапе, не содержит в себе «альтернативного универсализма». Нацизм и сталинизм — это системы с большими творческими возможностями, системы «большого стиля». Путинизм — это очень узкая, слабая рамка в этом смысле. Кремль пока ничего не смог прибавить к ядерному оружию и инерционному статусу члена пула стран — устроительниц мира после Второй мировой. Все это досталось ему от СССР. Ничего убедительного, никакой масштабной философии к этому не добавлено.
Безусловно, есть Дугин, есть Прилепин, есть аналог «фольксдойч» в образе «русского мира» и концепта «разделенного народа», есть инструменты гляйхшальтунга, то есть способы обеспечения «партийной лояльности», и другие узнаваемые элементы, которые можно квалифицировать как протофашизм, но все эти элементы, на мой взгляд, слишком нечетко стоят в повестке Путина. Кремль не в состоянии выстроить устойчивую мировоззренческую рамку, внутри которой фашизм смог бы начать «работать сам».
Путин обменял возможности экономического продвижения по всему миру (2005–2014) — а вместе с тем и возможности успешного идеологического закрепления своей модели на глобальном рынке идей — на абсолютно безнадежную модель «самоизоляции на почве ресентиментного антизападничества» (2014–2022). В 2005–2014 годах можно было предполагать, что путинизм разовьется в направлении концепции «новой Европы». Но сейчас уже ясно, что путинизм выбрал путь закрытия собственного «европейского проекта» и всех своих возможностей глобального продвижения. Я бы сказал, что это «тот же самый» политический режим, что и до войны 2022 года, просто окуклившийся и лишенный жизнеустроительной энергии и претензий на универсализм.
Читайте также
 Нынешний этап идеологической экспансии государства призван, с одной стороны, окончательно исключить и «отменить» либеральную часть российского общества, а с другой — изменить идентичность той его части, которая впитала идейный оппортунизм 2000-х, в свою очередь нивелировавший ценностный багаж и либеральные устремления перестроечной и постперестроечной эпохи.
Нынешний этап идеологической экспансии государства призван, с одной стороны, окончательно исключить и «отменить» либеральную часть российского общества, а с другой — изменить идентичность той его части, которая впитала идейный оппортунизм 2000-х, в свою очередь нивелировавший ценностный багаж и либеральные устремления перестроечной и постперестроечной эпохи.
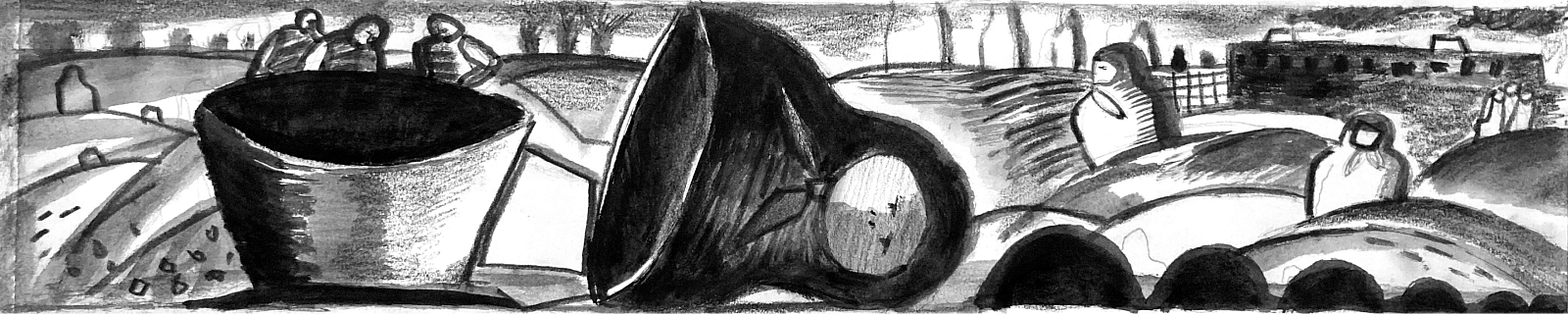 Почему путинизм (еще) не является идеологией
Обычно идеологии создают своего рода карту политики, с помощью которой можно понять, в каком направлении движутся политические процессы, но Путин долго и успешно избегал идеологической определенности, что позволяло ему сохранять политическую интригу вокруг своих ключевых решений. Эта черта режима сохраняется и сегодня: Кремль не может ни объяснить причины и цели войны с Украиной, ни обеспечить идеологическую мобилизацию в ее поддержку.
Почему путинизм (еще) не является идеологией
Обычно идеологии создают своего рода карту политики, с помощью которой можно понять, в каком направлении движутся политические процессы, но Путин долго и успешно избегал идеологической определенности, что позволяло ему сохранять политическую интригу вокруг своих ключевых решений. Эта черта режима сохраняется и сегодня: Кремль не может ни объяснить причины и цели войны с Украиной, ни обеспечить идеологическую мобилизацию в ее поддержку.
 Есть ли у путинского режима идеология?
Идеология путинского режима устойчива, поскольку отвечает на существующий запрос населения, опирается на глубоко укорененную советскую традицию и в то же время заполняет идеологический вакуум, возникший после распада Советского Союза. Она поможет путинскому режиму сохранить жизнеспособность на многие годы.
Есть ли у путинского режима идеология?
Идеология путинского режима устойчива, поскольку отвечает на существующий запрос населения, опирается на глубоко укорененную советскую традицию и в то же время заполняет идеологический вакуум, возникший после распада Советского Союза. Она поможет путинскому режиму сохранить жизнеспособность на многие годы.




