
Клинч консерватизма: удастся ли построить в России православный Иран?
Мечта о православном Иране
После начала войны в Украине Россия вошла в пике стремительной деградации публичной сферы. Необходимость оправдания войны толкает власти к резкому расширению идеологического контроля. Из библиотек изымаются книги; учебники, художественная литература и произведения искусства проверяются на предмет соответствия их содержания «семейным ценностям»; происходит повсеместная милитаризация школьного образования и воспитания; деградирует высшая школа. С редким для современного мира напором и скоростью власти насаждают элементы официальной квазиидеологии, складывающейся вокруг навязываемых обществу антимодернизационных ценностных нормативов: гомофобии, традиционных «семейных ценностей», православия, государствоцентризма, антивестернизма, милитаризма и т.п.
Нельзя сказать, что этот консервативный идеологический поворот связан с войной. Война лишь придала этой политике размах и агрессивность, подкрепив их репрессиями. Но мечта о православном Иране на месте России преследует Путина с начала 2010-х годов и мотивирована стремлением ограничить идейное влияние Запада на российское общество. После массовых протестов 2011–2012 годов, с начала своего третьего президентского срока, Владимир Путин пытается «нормализовать» российское общество на позициях консервативного традиционализма: актуализирует православную повестку и те самые традиционные ценности, прославляет патриархальность и патернализм, противопоставляя их «ценностному распаду» Запада, апофеозом которого выступает ЛГБТ-толерантность.
Однако успехи этой политики на протяжении десяти предвоенных лет оставались весьма ограниченными. И это не случайность и не недоработка. Предполагалось, что импульс «мягкой силы» в виде стимулирующей государственной политики актуализирует консервативные предпочтения «глубинного народа» — консервативной массы, составляющей ядро российского населения. Однако исследования показывают, что консерватизм и патриархальность ценностей российских граждан по многим вопросам сильно преувеличены, а навязанные официальные нарративы вступают в прямое противоречие с реальными предпочтениями населения.
Патернализм и компенсаторный консерватизм
Среди традиционных ценностей для россиян характерна высокая степень доверия к руководителям и начальникам. Этим, например, объясняются взлеты рейтингов доверия к прежде неизвестным государственным функционерам после их назначения на высокие посты во властной пирамиде.
Так, в начале января 2020 года опросные службы вообще не измеряли рейтинг начальника налоговой службы Михаила Мишустина, однако уже с середины прошлого года он занимает вторую строчку в рейтинге доверия россиян политикам — с 15–18%, по версии «Левада-центра» (лидеру рейтинга Владимиру Путину доверяют 40–43% опрашиваемых). Таким же образом когда-то пришел в политику Владимир Путин, и на этом же механизме основано относительно высокое доверие населения к губернаторам, получающим свое назначение в Москве. Это проявление приверженности к политическому патернализму или патронализму, которое исследователи прослеживают в России как на микроуровне малых сообществ, так и на макроуровне федеральной политики.
В то же время высокое доверие к начальству среди граждан России соседствует с ценностями личного выбора, когда речь касается разводов, абортов и до- или внебрачного секса. В этом отношении российское общество вовсе не выглядит традиционалистским — напротив, оно кажется достаточно эмансипированным. Вмешательство церкви в личную жизнь, в государственные дела, в процессы обучения и воспитания российское общество также совсем не поддерживает. По данным «Левада-центра», доля тех, кто считает, что религии не должно быть в школе, выросла с 19% в 2016 году до 31% в 2022-м.
Политолог Марлен Ларюэль полагает, что такое противоречие между низовым спросом и политикой пропаганды традиционных ценностей «сверху» — общая черта постсоциалистических стран, переживших недавно фундаментальные изменения. Гомофобия, ксенофобия, национализм и религия являются тем, что замещает идеологический вакуум, возникший после падения коммунистических диктатур в Восточной Европе. Консервативные и националистические политические силы доминируют в современной политике в Польше, Венгрии, Сербии, Болгарии и др. Это следствие консервативного сдвига, который произошел там в 1990-е годы и являлся защитной реакцией населения, отразившей его стремление к стабильности и нормализации, а не отказ от самих изменений.
В политическом плане эти консервативные устремления на первом этапе выражались в России в голосовании за КПРФ и ЛДПР. Позднее, как показали исследования, распространенный в 1990-е «красный пояс» российских регионов (где избиратели активно поддерживали КПРФ) сменился на «православный пояс» (высокая доля относящих себя к РПЦ и высокие результаты «Единой России» на выборах). Однако такая смена электоральных предпочтений вряд ли связана с ростом православного самосознания. Скорее, здесь наблюдается смена политического актора, выражающего патерналистскую повестку: с теряющей влияние КПРФ — на партию власти, «Единую Россию».
Индивидуализм вместо традиционализма
Однако компенсаторный консерватизм (реакция на стрессы предшествующего периода) вовсе не был единственной и доминирующей тенденцией. Как показали пять волн исследования динамики ценностных типов российских граждан в 2008–2018 годах, за этот период произошел существенный сдвиг в направлении индивидуалистических ценностей, заметно сократилась доля ценностей «сохранения» и людей, для которых «характерна сильно выраженная ценность экзистенциальной безопасности, которая в поисках защиты и руководства побуждает к ориентации на социальное окружение, на авторитеты и на государство».
Социолог Андрей Щербак на данных Европейского опроса ценностей (European Social Survey) показал, что в период крымской патриотической «возгонки» 2014–2016 годов сначала наблюдается всплеск консервативных настроений, но затем — их неуклонный спад. Ценности лоялизма и конформизма подскочили (с –0,1 и –0,2 соответственно в 2012 году до +0,7 и +0,8 — в факторных оценках), но уже с 2015 года началось снижение их поддержки (в 2018-м лоялизм был на уровне +0,3, а конформизм — на уровне +0,2). Поддержка традиционалистских ценностей выросла совсем незначительно (с +0,1 в 2014-м до +0,3 в 2018-м). Религиозность, к слову, в период 2010–2016 годов оставалась на уровне 0,0, а к 2018-му тоже немного снизилась. Данные «Левада-центра» подтверждают наличие тренда на более скептичное отношение российского общества к публичной активности РПЦ и идее ее политического влияния. Так, с 17% в 2016 году до 29% в 2021-м выросла, по данным «Левада-центра», доля тех, кто считает, что церковь оказывает чрезмерное влияние на государственную политику (недостаточным это влияние и в 2016-м, и в 2019 году считали 17%).
Мечта Владимира Путина о православном Иране противоречила фундаментальным трендам социальной динамики в российском обществе. Однако нельзя сказать, что усилия властей не дали никаких результатов.
Религия лицемерия
Можно сказать, что к концу 2010-х годов сложилось некоторое единство между низовым консерватизмом определенной части общества и консервативным нарративом, продвигаемым со стороны власти. Последний рассматривался средним российским обывателем отчасти как «нормативный». Однако это единство было сильным скорее в политическом спектре — оно выражалось в государствоцентризме, конформизме, патернализме, — но не в части ценностей, связанных с религиозностью, семейными моделями и другими зонами индивидуального выбора.
Социологи Софья Лопатина, Вероника Костенко и Эдуард Понарин показали, что россиянам, как и представителям других посткоммунистических обществ, свойственно публичное ценностное лицемерие: публично осуждать добрачный секс, разводы, аборты, однако в реальности рассматривать их как норму. Марлен Ларюэль обратила внимание, что в отношении религии действует похожая логика: граждане готовы манифестировать свою причастность к Русской православной церкви, однако уровень реальной религиозности — готовности соблюдать церковные обряды и т.п. — от этого очень далек.
Так, около 30% тех россиян, кто идентифицирует себя в качестве православных, не верят в существование бога. Более поздние данные LegitRuss показали еще более низкие результаты: только 55% респондентов заявили о своей принадлежности к какой-либо религии, из них только 81% назвали своей религией православие — таким образом, православными считают себя только 41% опрошенных. При этом, по данным социологов, в церковь в России ходит существенно меньше людей — от 2 до 6% опрошенных в зависимости от того, как поставлен вопрос. С этой точки зрения Россия относится к числу самых светских стран Европы.
Лицемерие касается не только религиозности, но и антизападничества. Как известно из многочисленных антикоррупционных расследований, продвигавшие идею о деградации Запада идеологи режима скупали на полученные от него гранты европейскую недвижимость.
Лицемерие не является каким-то генетическим свойством жителей России и соседних стран. В действительности оно маркирует их политическую пассивность — зазор между официально продвигаемыми нарративами и реальными практиками и нежелание этот зазор преодолевать. Лицемерие — это форма лояльности, при которой отсутствие политических прав обменивается на относительно высокий уровень индивидуальной свободы.
Отпиливая сук, на котором сидишь
Так или иначе, российский консерватизм «снизу» и консерватизм «сверху» не совпадают друг с другом, вопреки чаяниям политических менеджеров режима. Политолог Генри Хейл считает, что реальная ориентация на консервативные ценности среди россиян ниже, чем уровень поддержки непосредственно Путина. Хейл пишет, что общество в России начала 2020-х годов оказывается весьма разделенным по вопросам сексуального поведения и взаимоотношения полов, и на данных LegitRuss показывает, что явные элементы патриархата готовы публично поддерживать менее половины россиян. Значительное меньшинство считает мужчин лучшими политическими лидерами, чем женщины, и утверждает, что мужчины должны иметь приоритет в поисках работы; только 5% готовы выступать за неравную ответственность по уходу за детьми.
В результате исследователи полагают, что противоречия между реальными установками и навязанным официальным нарративом могут расколоть общество и оттолкнуть от режима те группы, которые готовы поддерживать начальство и лично Владимира Путина, но не готовы придерживаться всего комплекса «традиционных ценностей» и радикального антивестернизма. Политолог Кэти Стюарт показывает, что откровенная гомофобия является почвой для консервативной консолидации россиян, однако не способна сгладить противоречия, связанные с национальным, конфессиональным и социальным разнообразием российского общества. Как и Хейл, Стюарт пишет, что если идеологическая политика Кремля будет становиться более конкретной («семейные ценности», православие), то это может стать источником конфликтов как в неправославных регионах, так и в регионах с преобладанием светских и модернизационных ценностей.
Этот конфликт уже сейчас проявляет себя в крайне слабой поддержке нарративов власти и низких рейтингах ее одобрения среди молодых поколений — и в ближайшем будущем может распространиться на средние возраста. Защитный механизм лицемерия сохраняет свойственный значительной части российского населения лоялизм, его готовность существовать в условиях отсутствия политических свобод. Однако попытка подкрепить этот лоялизм с помощью навязываемого традиционализма и расширяющихся ограничений в потреблении и образе жизни приведет, скорее, к обратному эффекту — снижению поддержки власти, не способной представить населению ясной социальной перспективы и в то же время все более вторгающейся в зону его личных свобод.
Читайте также
 Нынешний этап идеологической экспансии государства призван, с одной стороны, окончательно исключить и «отменить» либеральную часть российского общества, а с другой — изменить идентичность той его части, которая впитала идейный оппортунизм 2000-х, в свою очередь нивелировавший ценностный багаж и либеральные устремления перестроечной и постперестроечной эпохи.
Нынешний этап идеологической экспансии государства призван, с одной стороны, окончательно исключить и «отменить» либеральную часть российского общества, а с другой — изменить идентичность той его части, которая впитала идейный оппортунизм 2000-х, в свою очередь нивелировавший ценностный багаж и либеральные устремления перестроечной и постперестроечной эпохи.
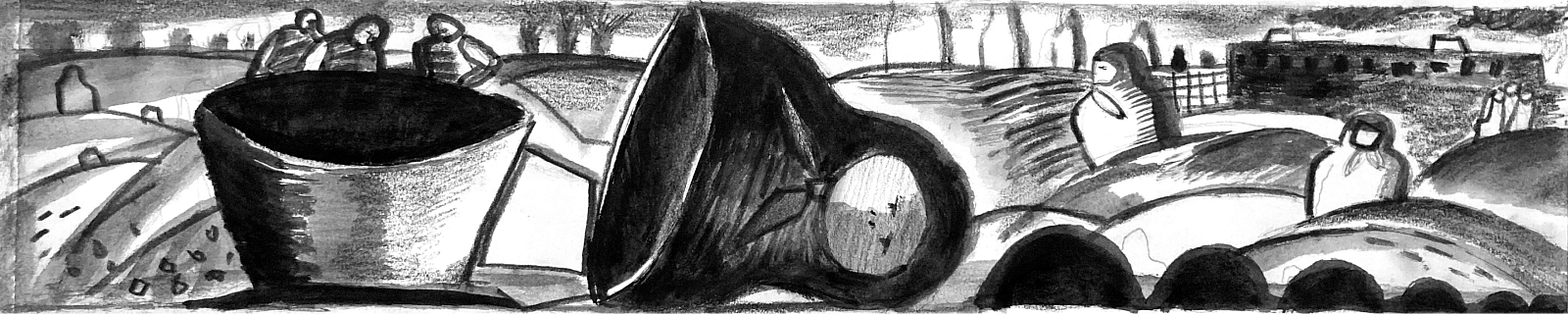 Почему путинизм (еще) не является идеологией
Обычно идеологии создают своего рода карту политики, с помощью которой можно понять, в каком направлении движутся политические процессы, но Путин долго и успешно избегал идеологической определенности, что позволяло ему сохранять политическую интригу вокруг своих ключевых решений. Эта черта режима сохраняется и сегодня: Кремль не может ни объяснить причины и цели войны с Украиной, ни обеспечить идеологическую мобилизацию в ее поддержку.
Почему путинизм (еще) не является идеологией
Обычно идеологии создают своего рода карту политики, с помощью которой можно понять, в каком направлении движутся политические процессы, но Путин долго и успешно избегал идеологической определенности, что позволяло ему сохранять политическую интригу вокруг своих ключевых решений. Эта черта режима сохраняется и сегодня: Кремль не может ни объяснить причины и цели войны с Украиной, ни обеспечить идеологическую мобилизацию в ее поддержку.
 Есть ли у путинского режима идеология?
Идеология путинского режима устойчива, поскольку отвечает на существующий запрос населения, опирается на глубоко укорененную советскую традицию и в то же время заполняет идеологический вакуум, возникший после распада Советского Союза. Она поможет путинскому режиму сохранить жизнеспособность на многие годы.
Есть ли у путинского режима идеология?
Идеология путинского режима устойчива, поскольку отвечает на существующий запрос населения, опирается на глубоко укорененную советскую традицию и в то же время заполняет идеологический вакуум, возникший после распада Советского Союза. Она поможет путинскому режиму сохранить жизнеспособность на многие годы.