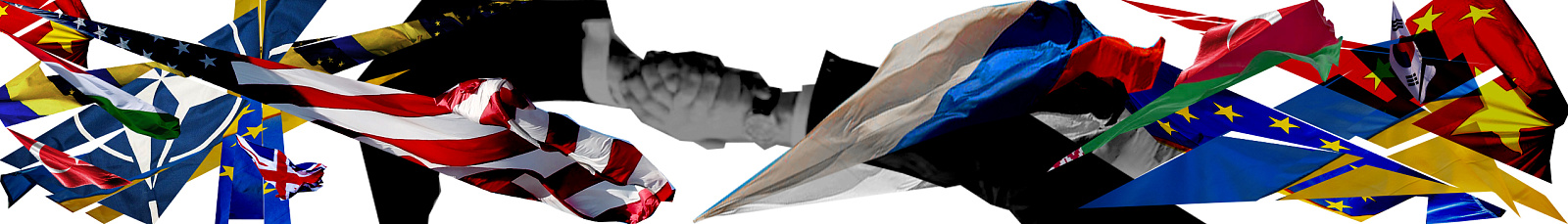
Мир по Гоббсу: администрация Трампа создала угрозу бесконтрольного обрушения режима ядерного нераспространения
Стремление Трампа пересмотреть существующие альянсы и соответствующие обязательства США толкает мир к бесконтрольному обрушению режима нераспространения ядерного оружия. Сегодня заполучить его стремятся не только страны-изгои, но и партнеры США, обеспокоенные ненадежностью американского «ядерного зонта».
Появление новых ядерных держав среди партнеров Вашингтона противоречит его фундаментальным интересам по проецированию и углублению собственной мощи даже в трамповском понимании.
Хотя ослабление режима нераспространения началось еще до прихода Трампа в Белый дом, подрыв доверия к политическим решениям и политической линии Вашингтона обозначил его новую и критическую стадию.
Европейские страны обдумывают создание ядерного щита без участия США, однако на этом процесс распространения ядерного оружия может не остановиться. Внутриполитические противоречия в европейских странах, в частности во Франции, будут подталкивать некоторые страны Европы не полагаться вполне на французско-британскую систему ядерного сдерживания.
Пример США ставит под сомнение логику коллективного сдерживания, место которой занимает логика «каждый за себя». Прочие страны будут скорее следовать примеру послевоенных Великобритании и Франции: даже при наличии гарантий в рамках коллективного сдерживания имеет смысл располагать хотя бы небольшим собственным ядерным арсеналом, чтобы не оказаться в ситуации зависимости от доброй воли поставщика безопасности.
Пример Северной Кореи, ставшей ядерной державой, несмотря на достаточно низкий уровень развития и международные санкции, демонстрирует, что вхождение в ядерный клуб окажется вскоре доступно большому числу стран, а не только латентным ядерным державам, к каковым эксперты относят Южную Корею, Японию, Саудовскую Аравию, Иран и некоторые другие.
Режим ядерного нераспространения практически невозможно сохранить в том виде, в каком он существовал во второй половине XX века. Однако если бы в Вашингтоне было более ответственное правительство, его трансформация могла бы принять более безопасные формы.
Выстрел в ногу
С приходом Дональда Трампа проблема распространения ядерного оружия за пределы узкой группы ядерных держав приобрела принципиально новое измерение. «Приготовьтесь к новой ядерной эпохе» — так называется статья политолога Гидеона Роуза в журнале Foreign Affairs. Действительно, с одной стороны, Трамп выдвигает жесткий ультиматум Ирану, требуя от него заключить сделку, предполагающую отказ от создания ядерного оружия. С другой, революционная готовность самого Трампа пересматривать прежние союзнические обязательства как в Европе, так и в Тихоокеанском регионе и шантажировать союзников отказом от этих обязательств подрывает систему альянсов, составлявших мировой порядок после Второй мировой войны, важнейшей частью которого, в свою очередь, являлся режим нераспространения ядерного оружия.
Причем если раньше стремление к обретению красной кнопки проявляли в основном страны-изгои вроде КНДР или Ирана, то сегодня эта идея все более охватывает страны «первого мира», обеспокоенные хаотичным поведением Трампа и его администрации, отмечают эксперты по международным отношениям Дебак Дас и Мишель Эпштейн в статье, опубликованной в журнале Foreign Policy. Могут ли союзники США рассчитывать, что администрация Трампа поддержит их в случае ядерной угрозы со стороны России, Китая или КНДР? Таким вопросом задаются сегодня Германия, Польша, Япония, Тайвань и Южная Корея. И если кто-то из европейских или восточноазиатских союзников США решит обезопасить себя с помощью собственного ядерного арсенала, это может запустить эффект домино, полагают авторы.
При этом волна распространения ядерного оружия среди партнеров Вашингтона нанесет прямой удар по национальным интересам США в их нынешней трактовке, говорится в комментарии портала War on the Rocks. Трамповская формула «Америка прежде всего» опирается на примат превосходства американской мощи, однако появление в рядах партнеров США новых ядерных держав подрывает эту мощь, усиливая их независимость от Вашингтона и лишая его мощного рычага воздействия на партнеров. Другими словами, распространение ядерного оружия как среди союзников, так и среди противников США подрывает те привилегии власти, которыми пользуется сегодня Вашингтон.
Ситуация выглядит действительно парадоксальной. В то время как непоследовательная риторика Трампа заставляет союзников всерьез рассматривать даже самые катастрофические варианты, фактическая политика США и НАТО в отношении ядерного оружия движется в противоположном направлении. Потенциал ядерного сдерживания НАТО в Европе сегодня только усиливается, отмечается в обзоре немецкого исследовательского центра DGAP. Ядерные боеголовки B61, хранящиеся в Германии, Бельгии, Италии и Нидерландах, заменяются новой, модернизированной версией B61-12. Кроме того, все эти страны закупили американские истребители F-35 в качестве авианосной системы. В следующем году Германия получит первый из 35 истребителей-бомбардировщиков F-35, а американские оружейные склады в Европе, включая базу в немецком Бюхеле, где хранятся американские атомные бомбы, в настоящее время модернизируются для размещения новых типов оружия. Кроме того, США готовятся разместить B61-12 и в Великобритании, на территории которой американских ядерных бомб не было с 2008 года.
Однако все это выглядит бесполезным для Европы в отсутствие главного элемента коллективного сдерживания — доверия к политическим решениям и политической линии Вашингтона.
Режим нераспространения: мир Локка против мира Гоббса
Справедливости ради, впрочем, следует отметить, что ответственность за расшатывание режима нераспространения ядерного оружия лежит не на одном Трампе. Сам по себе режим нераспространения является нетривиальным эпизодом в истории человечества. В некотором смысле это эпизод относительно успешного строительства мира эффективного общественного договора по Джону Локку среди традиционного гоббсовского мира «войны всех против всех», замечает Гидеон Роуз. После того как ядерное оружие появилось у США и СССР, а затем также у Великобритании и Франции, казалось очевидным, что все прочие страны также будут стремиться обзавестись им, как это всегда бывало, когда в военной сфере возникала важная технологическая новация.
Однако созданные США коалиции коллективной безопасности стали эффективной альтернативой такому сценарию. Более того, исключительное положение США, опирающихся на совокупную мощь своих союзников, в значительной степени отодвигало угрозу оказаться «добычей сильного» даже для стран, формально не входивших в американские союзы, что снижало их стремление к обретению оружия универсального сдерживания. Так, например, международная коалиция во главе с США вернула независимость Кувейту после попытки его оккупации Ираком в 1990 году.
Хотя в двух конфликтах — арабо-израильском и индо-пакистанском — США не смогли выполнить роль внешнего гаранта, эти случаи считались исключительными и не подорвали Договора о нераспространении ядерного оружия, подписанного странами-инициаторами в 1968 году (впоследствии к нему присоединились 190 государств).
Впрочем, в этой истории всегда присутствовала и оппортунистическая линия, напоминает Роуз. Так, Великобритания продолжила собственную ядерную программу после того, как США прекратили сотрудничество с Лондоном в рамках Манхэттенского проекта, и успешно испытала свою ядерную бомбу в 1952 году. Следующим скептиком оказался президент Франции де Голль: точно так же, как Англия не доверила свою судьбу в этом вопросе США, де Голль решил не полагаться на коллективные гарантии Америки и Великобритании. В итоге Франция создала свою бомбу к 1960 году, а впоследствии также оказала помощь в создании ядерного оружия Израилю. Наконец, уже после окончания холодной войны, в 1993 году, в журнале Foreign Affairs американский политолог Джон Миршаймер, вопреки солидарному мнению администрации Клинтона и американского внешнеполитического истеблишмента, утверждал, что их борьба за безъядерный статус Украины является грубой ошибкой, в результате которой Украина окажется безоружной перед лицом российского реваншизма.
Все скептики исходили из идеи, что перед лицом угрозы реального ядерного конфликта готовность пойти на него ради защиты чужой страны может оказаться существенно более низкой, чем это декларируется, пока угроза является в большей степени теоретической.
В начале XXI века по режиму нераспространения были нанесены несколько мощных ударов. Во-первых, более 20 лет США, Израилю и европейским странам не удается остановить ядерную программу Ирана, что само по себе является важным индикатором уязвимости режима нераспространения. В 2010-е годы, во время первого президентства Трампа, США потерпели полное фиаско в предотвращении нуклеаризации Северной Кореи. В 2014-м и после 2022 года западная коалиция не сумела остановить агрессию Москвы против Украины. А гарантии безопасности, данные ей США и Великобританией в рамках Будапештского меморандума в обмен на отказ от советского ядерного арсенала, оказались пустой бумажкой. В США предпочитают о них даже не вспоминать. Наконец, уже после начала полномасштабного вторжения Владимиру Путину с помощью ядерного шантажа удавалось эффективно ограничивать масштабы западной помощи Украине.
Даже без Трампа доверие к режиму нераспространения было подорвано. Динамика переговоров вокруг корейской ядерной программы определенно указывала, что оппортунисты сдерживания были скорее правы.
Мировой ядерный арсенал в 2024 году
Панъевропейское сдерживание и принцип домино
Новая американская администрация демонстративно отказывается от той роли, которую США играли в мировой политике в течение последних 80 лет, и тех обязательств, которые были с ней сопряжены. Это ведет к коренному сдвигу представлений не только на уровне правительств, но и в общественном мнении многих стран.
Согласно опросу, проведенному в Южной Корее в начале 2024 года (отметим: еще до второго прихода Трампа в Белый дом), 61% респондентов на вопрос, будут ли Соединенные Штаты использовать свое ядерное сдерживание в случае чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове, даже если возникнет риск нападения на США, ответили «нет»; соответственно 73% высказались за создание страной собственного ядерного оружия. Опрос, проведенный в феврале 2025 года, показал, что 52% поляков хотят, чтобы их страна обладала ядерным оружием, 28% высказались против (опрос UCE Research, метод CAWI — веб-интервью). Среди сторонников партий «Конфедерация», «Право и справедливость» и «Третий путь» идею поддерживает 60–70% респондентов.
В Германии в феврале 2025 года 64% высказались против того, чтобы у страны было ядерное оружие, 31% — «за», и это на 4 процентных пункта больше, чем год назад. Однако здесь следует учитывать, что до того, как Россия развязала войну в Украине, Германия была убежденно антиядерной страной: большинство немцев высказывались за то, чтобы даже американское ядерное оружие было выведено с территории их страны, и поддерживали идею присоединения к Договору о запрещении ядерного оружия. Еще в 2020 году только 40% немцев говорили, что американское ядерное оружие на территории Германии способствует сдерживанию. В 2022-м таких уже было более 60%, показывали опросы.
Сразу после победы на выборах, усомнившись в том, что НАТО сможет сохраниться в его нынешнем виде, новый канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к переговорам с Парижем и Лондоном о расширении их ядерного «зонта». Великобритания сразу согласилась начать «стратегический диалог о защите наших союзников на европейском континенте посредством... [ядерного] сдерживания». Для Франции, всегда ратовавшей за «стратегическое самоопределение» Европы и дистанцирование от США, это стало знаком победы французского политического мышления (→ Re: Russia: Стратегическая автономия Европы).
Впрочем, британские и французские ядерные запасы всегда были лишь скромным дополнением к арсеналу США, отмечает в своем обзоре для GMF Роберт Маккиннон. Первый базируется исключительно на подводных лодках и использует американские ракеты Trident в качестве средства доставки, а потому в значительной мере находится под контролем США (впрочем, некоторые эксперты оспаривают эту точку зрения и утверждают, что Великобритания в среднесрочном периоде независима в использовании своих ядерных сил). Безусловной ядерной независимостью пользуется Франция, однако ее арсенал рассчитан на удовлетворение суверенных потребностей, а не на защиту всей Европы. Таким образом, обеим странам придется расширять и адаптировать свой ядерный потенциал, если Европа решит идти по пути переориентации на французско-британскую систему сдерживания.
Впрочем, созданием европейского ядерного щита дело может не ограничиться. В том числе по причине внутриполитических разногласий в европейских ядерных странах, отмечают авторы статьи в Foreign Policy. Так, например, Марин Ле Пен недавно заявила, что Франция не должна делиться ядерным оружием, «не говоря уже о делегировании» его использования другим европейским странам. На этом фоне прочие европейские страны могут решить, что полностью полагаться на французский ядерный зонт небезопасно, учитывая не совсем нулевую вероятность прихода правых к власти во Франции. В свое время Лондон не доверился Вашингтону, а Париж не поверил Вашингтону и Лондону. Так почему же другие страны должны полностью доверять Лондону и Парижу сейчас, задается вопросом Роуз. Неслучайно поэтому, поддержав идею расширения ядерного зонтика Франции, премьер-министр Польши Дональд Туск прямо заметил, что Польша была бы в большей безопасности, если имела бы собственный ядерный арсенал.
Поскольку логика коллективного сдерживания поставлена под сомнение, логика оппортунистов нераспространения заставляет национальные правительства делать следующий шаг по дороге послевоенных Англии и Франции: даже при наличии гарантий в рамках коллективного сдерживания имеет смысл располагать хотя бы небольшим собственным ядерным арсеналом, чтобы не оказаться в безвыходной ситуации, когда коллективные гарантии будут по той или иной причине поставлены под сомнение или просто проигнорированы и забыты, как это произошло в случае Украины.
Опасный путь к новому равновесию
Сегодня Южная Корея, Япония, Иран и Саудовская Аравия являются так называемыми латентными ядерными государствами, то есть странами, которые способны весьма быстро создать собственное ядерное оружие. Это же касается и ряда европейских стран: Германии, Бельгии, Италии, Испании и Нидерландов. Впрочем, пример Северной Кореи — весьма отсталой в экономическом и технологическом отношении страны, находившейся к тому же под жесткими международными санкциями, — демонстрирует, что создание ядерной бомбы не представляет особой сложности для намного большего числа стран. А некоторые государства, возможно, имеют такого рода экстренные программы или заделы в продвижении по этому пути. Так, например, Швеция реализовывала независимую ядерную программу до 1970-х годов, напоминает Гидеон Роуз. Круг стран, способных к быстрому созданию ядерного оружия, может быть гораздо шире.
Скорее всего, следующей ядерной державой станет Южная Корея, полагают эксперты. Япония находится на столь продвинутом уровне в ядерных технологиях, что создание ядерного оружия является для нее несложным и чисто техническим вопросом. При этом вплоть до прошлого года общественное мнение страны было решительно против перехода в ядерный клуб: согласно опросам, эту идею поддерживали лишь 21% японцев. Впрочем, изменение внешнего контекста и возникновение реальной угрозы могут быстро изменить ситуацию. Важным фактором для Японии будет и наличие ядерного оружия у Южной Кореи. По мнению Роуза, вслед за этими странами в ядерный клуб вступит и Австралия. На ближневосточном театре главными претендентами ядерного клуба являются Иран, Саудовская Аравия и Турция. В новых условиях вряд ли что-то может удержать их от принятия оппортунистической логики «каждый за себя». Скорее всего, бесполезными окажутся как ультиматумы США в адрес Ирана, так и предложения американской ядерной защиты в адрес Саудовской Аравии.
В конце 2000-х годов, когда потенциал ядерного сдерживания выглядел уже в значительной степени исчерпанным, политолог Кеннет Уолц сформулировал новый подход к проблеме в статье, озглавленной «Распространение ядерного оружия: чем больше, тем лучше». Поскольку сохранить режим нераспространения вряд ли удастся, рассуждал он, ядерное оружие должно стать доступно сразу большому числу стран. В этом случае возникнет новая система многостороннего взаимного сдерживания, которая ограничит возможность его применения. Однако самая опасная фаза процесса распространения приходится на период, когда страны собираются пересечь ядерный порог, отмечает Роуз, или вскоре после его пересечения. Поэтому весьма вероятно, что миру в ближайшем будущем грозит череда ядерных кризисов, схожих по своей логики с Карибским кризисом 1962 года, когда новые ядерные державы будут испытывать решимость друг друга или стремиться предотвратить обретение ядерного статуса своими антагонистами и соседями.
При том что сохранить режим нераспространения в том виде, в котором он существовал во второй половине XX века, сегодня вряд ли возможно, мир был бы, безусловно, более безопасным, если бы в США — стране с крупнейшим ядерным арсеналом — было более ответственное правительство, осознающее свою роль в наиболее безопасной трансформации режима нераспространения, важнейшими партизанами которого они когда-то являлись, в новый сбалансированный порядок.