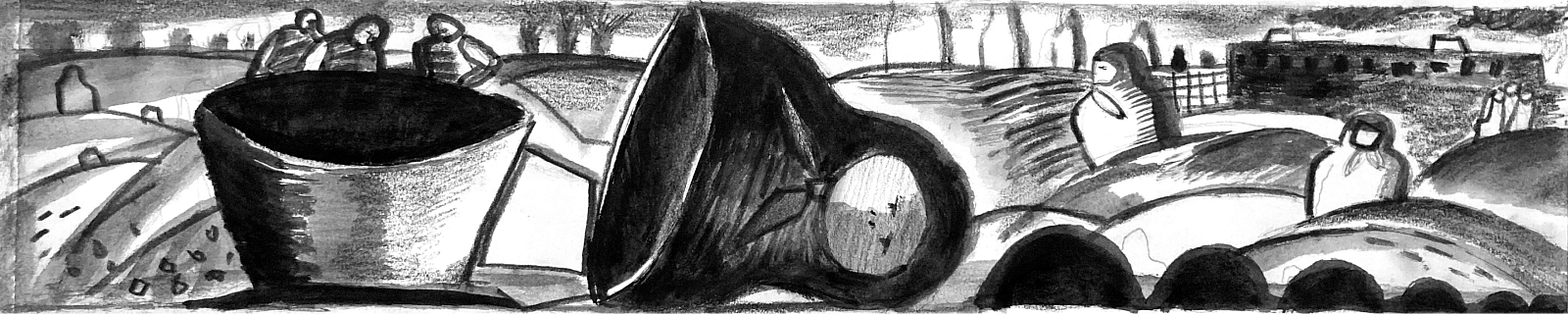
Год исхода: уехавшие, остающиеся и трудности коммуникации
Мощная эмиграционная волна 2022 года разделила российское общество и его либеральную часть на две большие группы — уехавшие и остающиеся противники войны. Социолог Любовь Борусяк уже почти год проводит опросы в обеих группах. В статье для Re: Russia она обобщила результаты нескольких волн опросов. Эмиграция-2022, в отличие от предыдущих волн, стала политической: уезжали люди, которые не могли смириться с началом боевых действий между Россией и Украиной. Но множество несогласных с войной остались в России. Это две схожие группы по уровню образования, взглядам и образу жизни. Война вызвала две противоположные реакции: одни уезжали спонтанно, плохо подготовившись, практически бежали, другие, с меньшими возможностями, напротив, как будто застыли. В среднем уехали более молодые и обеспеченные ресурсами (работа, деньги, знание языков, родственники и друзья в другой стране) и меньше связанные обременениями. Лишь часть остающихся — принципиальные противники отъезда. Они объясняют свой неотъезд в том числе возможностью продолжать делать полезные вещи для страны и людей. Но не уверены, что это повлияет на будущее России.
И у уехавших, и у оставшихся резко сузился горизонт планирования. Многие уехавшие неоднократно меняли страну проживания. Но решив первый круг проблем, достаточно быстро адаптировались на новом месте. Они вполне ощущают преимущества своего положения — бóльшую свободу и безопасность. Живут на чемоданах, но на свободе. Наоборот, у оставшихся усиливается страх, им свойственна депрессивность. Они остро ощущают свою маргинализованность и непредставленность в общественном дискурсе современной России. Социальное молчание становится для них источником еще большего стресса.
Уехавшие и остающиеся несогласные примерно одинаково видят политическую ситуацию; у них примерно одни и те же источники информации. Однако обе группы именно отъезд воспринимают как социальную норму. И это вызывает напряжение в их коммуникации. Многие остающиеся полагают, что уехавшие считают неотъезд девиантным и возлагают на них большую ответственность за продолжающуюся войну. Попытки формулирования и понимания коллективной и личной вины и ответственности вызывают еще большее напряжение. У остающихся формируется комплекс жертвы, заложника. Преодоление этого напряжения и выработка идеологии солидарности двух групп — важнейшая задача, так как обе группы нуждаются в поддержке друг друга.
Эмиграционная волна после начала военных действий в Украине сразу стала одним из центральных событий прошедшего года. Эмиграционных процессов такого массового масштаба в России не случалось последние сто лет. После эмиграционного подъема начала 1990-х Россия оставалась страной с невысоким уровнем эмиграции, значительно уступая многим бывшим советским республикам. И хотя уже в 2019 году Atlantic Council назвал один из своих докладов «Путинский исход: новая утечка мозгов», до реального «исхода» еще было далеко. Опросы общественного мнения показывали, что значительная часть россиян, особенно молодых, думает о возможности уехать («Леваде-центру» в мае 2019 года об этом сказали 16% опрошенных, а в мае 2021-го — 22%), но эти ответы скорее отражали общую неудовлетворенность — большинство из говоривших о таком желании ничего для переезда не предпринимали. После 24 февраля 2022 года ситуация изменилась — за считанные месяцы из России уехали сотни тысяч людей.
В апреле 2022 года я взяла 60 интервью у россиян, уехавших после начала войны, а в августе–сентябре поговорила с ними еще раз и добавила новых участников. Эта вторая волна закончилась 21 сентября, за день до начала мобилизации, поэтому в октябре–ноябре я снова обратилась к уехавшим, в том числе уже после объявления мобилизации. В сумме я записала 201 интервью. Набор респондентов проходил методом снежного кома: я публиковала предложение дать интервью или ссылку на анкету в соцсети, другие ее пользователи их распространяли.
Нынешняя эмиграционная волна — политическая, уезжали люди, не согласные с началом боевых действий между Россией и Украиной. Но много несогласных оставалось в стране. И я начала опрашивать представителей и этой группы. В опросе, проведенном 20–21 мая 2022 года, приняли участие 500 человек, остающихся в России. В ходе повторного опроса в ноябре за столь же короткий период на анкету ответили 1300 остающихся. И я еще долго получала письма от не успевших принять участие. Было видно, что остающиеся (то есть не уехавшие пока — часть из них собирались это сделать) остро ощущают свою непредставленность в общественном дискурсе, им хочется рассказать о себе. По их словам, интервью имели психотерапевтический эффект, помогали разобраться в себе.
Среди уехавших интервью мне давали люди самых разных возрастов (18–60 лет), проживавшие до отъезда в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Среди них были представители IT-индустрии, научные работники, учителя, экономисты и финансисты, бизнесмены, представители гуманитарных профессий и пр. Весной опрошенные находились в 15 разных странах, а осенью — уже в 26. Добавились в основном страны Европы, США и Средняя Азия, куда за апрель–сентябрь переехала часть моих респондентов. Большинство из них не рассматривали страну своего нынешнего пребывания как результат окончательного выбора. Доля людей, которые уехали из-за прямой опасности политических репрессий, была небольшой (журналисты и несколько политических активистов).
В опросе остающихся тоже в основном приняли участие жители московской агломерации и Санкт-Петербурга (71%). Трети респондентов не исполнилось 33 лет, 30–49 лет было 41% опрошенных, больше 50 — 26%. В профессиональном плане по сравнению с уехавшими респондентами здесь значительно ниже оказалась доля тех, кто связан с IT, экономикой и финансами, заметно выше — доля гуманитариев. Женщин было существенно больше, чем мужчин. Но исследование не претендует на репрезентативность. Мы не знаем размер и структуру генеральной совокупности, потому сделать репрезентативную выборку невозможно.
В этом тексте я попытаюсь разобраться, в чем сходства и различия между уехавшими и остающимися, которые в основном придерживаются схожих взглядов и не слишком различаются в плане уровня образования, профессии, предыдущего места жительства, и как менялось их отношение к происходящему и своему положению в течение года.
Отъезд и неотъезд: бежавшие и застывшие
Когда весной я спрашивала респондентов, что они испытали 24 февраля, это были совсем свежие и чрезвычайно эмоциональные воспоминания. Спустя полгода, казалось бы, эта острота должна была притупиться, но этого не произошло. Вспоминая об этом, люди словно заново испытывали все те же чувства:
Нереальность происходящего (трудно было поверить, что такое вообще возможно!); страх за близкую знакомую в Киеве и ее семью, за родственников своих друзей в Одессе; ненависть к руководству нашей страны; отчаяние от невозможности остановить, депрессия, бессонница и т. п.
Через несколько дней появился страх перед собственным будущим: мобилизация, низкое качество жизни, закрытые границы, новый СССР. Помню, что стало страшно и грустно за маму — она врач, много работает и такого остатка жизни ей мне бы не хотелось.
А вот ноябрьские воспоминания о феврале 2022 года:
Меня накрыло еще больше, хотя у меня никого нет, кого бы [война] могла коснуться. Это был какой-то безумной силы коллективно-бессознательный страх. Он витал в воздухе.
Уехавшие и остающиеся испытывали одни и те же эмоции: чаще всего страх, ужас (примерно три четверти респондентов), реже — бессилие, отчаяние, опустошение, депрессию (1/4), злость, гнев, растерянность, стыд, разочарование.
Государство нарушило базовую, самую жесткую для этой группы людей норму — необходимость поддержания мира. В результате начала формироваться новая норма: надо уезжать, больше тут жить нельзя. Более половины уехавших весенних респондентов до этого всерьез не задумывались об отъезде, но уехали в течение нескольких дней или недель, а иногда и часов. Были те, кто недавно купил квартиру и начал в ней обустраиваться, но в конце февраля взял билеты на самолет и на следующий день улетел. Почти половина уехавших говорили, что понимали, что происходит в стране, еще раньше, и думали об отъезде в последние годы, но продолжали жить по инерции. К моменту отъезда не у всех были даже загранпаспорта, а тем более визы — во время пандемии их срок закончился. Поэтому выбор стран, куда можно уехать, оказался очень узким.
Страх был главной причиной желания уехать. Больше всего и уехавшие, и остающиеся боялись скорого закрытия границ и объявления всеобщей мобилизации. Очень страшно было оказаться запертыми в мышеловке. Но были и другие объяснения. Более 20% написали, что поняли в тот момент: у России нет будущего. Примерно четверть задумавшихся весной 2022 года об отъезде, но в итоге оставшихся отметили, что не хотели ассоциироваться со страной-агрессором.
У многих уехавших ужас перед происходящим вызвал желание бежать как можно скорее, даже без представления о том, что они будут делать дальше. У части оставшихся реакция была противоположной: замереть, остановиться, подумать. Они были как бы парализованы страхом.
У многих уехавших релоцировались фирмы, они были уверены, что благополучно устроятся. Другие полагали, что с их профессией и уровнем подготовки они будут востребованными за рубежом. Это касалось не только айтишников, но и части людей, занимающих высокие или средние позиции в бизнесе, финансах, консалтинге, науке, знающих английский и имеющих накопления. Как показали повторные интервью, не всем из оптимистов удалось за это время устроиться на работу. Среди остающихся было больше тех, кто сомневался в своих силах.
Уехавших и оставшихся разделяет тема обременений: чувство ответственности за больных родственников, стариков-родителей и пр., некоторые сами больны. Такие проблемы были и у некоторых уехавших. Среди моих респондентов почти не было тех, кто бросил стариков-родителей: им удалось решить проблему, хотя бы временно (договориться с другими родственниками, нанять персонал и пр.).
Еще одной проблемой стал возраст — многие из остающихся ссылались на него как на причину. Практически все уехавшие отмечали, что даже в 50 лет тяжело резко менять жизнь, уходить в зону неопределенности, а после 60 это практически невозможно. Единственное исключение — эмиграция в Израиль, где имеющие право на репатриацию получают помощь от государства, у многих есть там родственники, есть возможность приехать не на «пустое место».
В целом уезжают более молодые и активные, имеющие востребованную профессию, знающие язык (хотя бы английский) и не имеющие слишком существенных обременений. Многие уехавшие респонденты говорили, что самая простая эмиграция у одиноких молодых людей или относительно молодой семейной пары.
В ноябре лишь 20% оставшихся респондентов были уверены, что останутся в России и дальше, 60% отметили, что у них возникло желание уехать. Как показало время, оно осталось не реализованным. При этом назывались едва ли реалистичные условия отъезда:
[Не уезжаю,] потому что денег нет, потому что моя текущая работа, которую я очень люблю, вряд ли будет котироваться за границей.
Вдруг предложат интересную работу за рубежом, вдруг будет адресное приглашение от кого-то, кто поддержит. Все это из разряда чудес.
Лишь небольшая часть остающихся — принципиальные противники отъезда. Они не понимают, почему власти имеют право лишать их родного дома (об этом говорил каждый седьмой респондент) и почему уехавшие так часто их спрашивают, почему они остались. Они не согласны с «новой нормой», гласящей, что несогласные уезжают. Наконец, есть те, кто считает, что от их профессиональной деятельности зависит будущее России («Если не мы будем учить детей, то чему их научат другие?»).
Уехавшие: на чемоданах на свободе
И остающиеся, и значительная часть уехавших ощущают потерю контроля над своей жизнью и резкое сужение горизонта планирования. Если раньше люди понимали, что с ними будет через несколько лет, а потому покупали в ипотеку жилье, рожали детей, думали о смене работы на более интересную и денежную, готовили детей к поступлению в университет и пр., то теперь многие не представляют, что случится завтра и как это на них отразится. Как сказала одна из уехавших респонденток, «горизонт планирования у меня теперь как у мышки». Другие респонденты горизонт планирования часто называют «схлопнувшимся», «съежившимся», «сократившимся до дней или недель».
Если человек релоцировался вместе со своей фирмой или приехал в другую страну с договоренностью о работе (и это страна, где ему хочется жить), если ему не надо думать, на какие деньги снимать жилье, и при необходимости он может получать медицинскую помощь, то он адаптируется достаточно быстро. В частности, начинает учить язык той страны, где оказался. В весеннюю волну таких людей (исключая «релокантов по работе») было не очень много.
Заметно больше было тех, кто приехал в страну, где никогда не думал оказаться, практически без документов, с очень небольшой финансовой подушкой. Часть из таких людей потом вернулись в Россию, хотя бы на время (например, чтобы оформить документы). Среди весенних уехавших респондентов в Россию летом вернулся каждый пятый, но все говорили, что если ситуация ухудшится, то уедут снова, лучше подготовившись. В октябре, после объявления мобилизации, никого из них в России уже не было.
Часть уехавших, слабо подготовленных к отъезду и не имеющих существенных накоплений и работы вне России, чувствовали себя очень тяжело, находились в растерянности. Многие продолжали работать онлайн на российских работодателей, но понимали, что это не будет продолжаться вечно, а потому не ощущали контроля над ситуацией. Очень многие изначально приехали в страны, где не собирались находиться долго, и искали возможность переехать в другое место (чаще всего в Европу), а потому буквально сидели на чемоданах. За время между двумя замерами примерно две трети моих весенних респондентов поменяли страну проживания, а некоторые переезжали неоднократно.
Те, кто оказался там, где решил окончательно обосноваться, начали постепенно устраиваться, чувствовать себя увереннее, жизнь их все больше входит в размеренное русло. Особенно это относится к тем, кто оказался в странах, где за относительно короткое время можно получить вид на жительство или долго жить без него. Их эмоциональное состояние значительно улучшилось, появилась некоторая уверенность в настоящем и будущем.
Осенняя волна эмиграции во многом сталкивалась с теми же проблемами. Проще уехавшим во вторую волну потому, что они знают, как через эти проблемы прошли их успешные друзья и знакомые. В то же время конкурировать за работу приходится уже не только с местным населением, но и с занявшими рабочие места соотечественниками, да и цены на жилье практически везде выросли. Тем не менее опыт предыдущей волны, если у знакомых он удачный, помогает эмоционально настроиться на собственный успех.
Очень важным преимуществом уехавших стало ощущение гораздо большей, чем в России, свободы и безопасности, отсутствие страха перед репрессиями. Об этом говорили многие уехавшие: «Пока у меня сложно с работой, с деньгами не очень, но здесь я начала свободно дышать»; «как только мы пересекли границу, отключили VPN, почувствовали, как начал уходить страх».
Довольно распространенным оказался и мотив свободного дыхания, смены воздуха со спертого на свежий. Напротив, описывая свои чувства, некоторые остающиеся писали, что им «нечем дышать», «невозможно дышать», для меня «просто последняя капля будет из-за какого-нибудь тупого закона, который запрещает дышать».
Остающиеся: между молотом и наковальней
Страх, возникший в феврале у остающихся несогласных, никуда не ушел. Зачастую со временем он только усиливается: они следят за новостями в медиа, которые показывают, что режим ужесточается, а положение остающихся несогласных становится все более опасным. При этом уехавшие и остающиеся несогласные пользуются практически одними и теми же источниками информации («Медуза» и «Новая газета», реже «Дождь», YouTube-каналы).
Отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах они все же могут уехать из страны, остающиеся несогласные чаще всего писали о страхе массовых репрессий (17%), еще большего ужесточения режима (11%), реальной угрозы для своей жизни и жизни близких из-за военных действий на территории страны, начала гражданской или ядерной войны — по 8%. Эти страхи очень сильны, многие писали о постоянной депрессии, обращениях к психологам, психотерапевтам, психиатрам. В осеннем вопросе появилась отсутствовавшая весной тема суицида. «Нет возможности уехать. Другой выход — только самоубийство»; «я уже рассматриваю суицид».
Впрочем, об обращении к психологической и психиатрической помощи говорили и многие уехавшие, хотя по другим причинам. Прежде всего это те, кого беспокоит неустроенность, непонятные перспективы с поиском работы, финансовые трудности. Некоторые тяжело переживают слова детей-подростков о том, что родители разрушили их жизнь.
Часть остающихся несогласных удаляет свои аккаунты в соцсетях. Большинство сохраняет их, но опасается не только писать посты на политические темы, но даже оставлять комментарии, а подчас и лайки. Социальные сети для них в большей мере становятся источником информации, а не местом проявления своих чувств и мнений. Это в свою очередь нередко становится причиной еще большего стресса, особенно когда люди видят обращенные к ним упреки со стороны уехавших, в том числе лидеров общественного мнения, людей уважаемых. Одно из главных свойств остающихся несогласных — их чрезвычайная ранимость. Многие из них чувствуют себя между молотом (страх перед реальными или возможными действиями властей) и наковальней (упреки в том, что они не уезжают, что поддерживают своими налогами спецоперацию, что не заявляют прямо о своем отношении к происходящему, не борются с режимом).
Половина (51%) оставшихся были вынуждены объяснять своим знакомым, почему они остаются. Фактически остающиеся несогласные вынуждены оправдываться за нарушение новой нормы «Не согласен — уезжай!». Эта норма сложилась уже весной, когда уехали почти все представители оппозиционных СМИ, известные политики. У большинства остающихся респондентов страну тогда покинули некоторые, а иногда — многие друзья и знакомые.
Страх перед репрессиями, включая потенциальную угрозу для жизни, — самое популярное объяснение тяжести, а подчас и безысходности их положения. При этом почти ни у кого нет знакомых, которые подверглись бы репрессиям, и для большинства эти угрозы носят пока гипотетический характер. Молчаливые, опасающиеся открыто подавать голос, хотя бы в соцсетях, боящиеся преследований, остающиеся несогласные чувствуют себя непредставленными, исключенными из социальной жизни. Именно поэтому они с такой готовностью откликнулись на приглашение участвовать в анонимном опросе, где есть возможность безопасно высказаться о наболевшем, заявить о себе как о группе и показать, что не все несогласные покинули Россию.
Конечно, нельзя абсолютизировать это «социальное молчание». Есть люди смелые, которые пишут о том, что видят и что об этом думают. Но их среди остающихся не очень много. Свое нарушение нормы на отъезд они чаще всего объясняют отсутствием ресурсов (в среднем у уехавших ресурсов действительно больше) и обязательствами перед другими (дескать, мы бы хотели уехать, не нарушать норму, но не имеем такой возможности):
Я бы покинула Россию в течение суток, если бы было куда и на что.
Не потяну перевезти животных и мать, а оставить не могу.
Я бы уехал, но возраст. Кто и где меня ждет?
Если вдруг с неба свалится куча денег, мы уедем. И никогда не вернемся.
Осенью появился новый мотив: начало разрушаться мощное табу на разговоры о смерти родственников как условии отъезда.
Главное, чем оправдывают свою жизнь в России остающиеся несогласные, — это возможность делать что-то полезное для страны и людей, но не для государства (84%). Чаще всего это полезная людям и обществу работа (образование, медицина, НКО, юриспруденция) (24%), волонтерство, поддержка НКО, помощь украинским беженцам, моральная поддержка людей, включая близких (17%), просвещение населения, агитация сомневающихся (13%). И только 3,5% назвали в связи с этим гражданскую и политическую активность, даже «тихий протест», причем некоторые отмечали, что теперь это невозможно.
Учителя и преподаватели уверены, что если они отдадут детей и студентов на откуп сторонникам происходящего, то мы потеряем еще одно поколение. Пока это возможно, нужно честно делать свое дело, прививать своей аудитории правильные, гуманные ценности. Где именно они волонтерят, какие фонды поддерживают, писали немногие. Но многие считают эту деятельность очень важной при ее относительной безопасности:
Сейчас в основном жертвую деньги для помощи беженцам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Я поддерживаю независимую прессу в своем городе, отправляю пожертвования и адресную помощь беженцам.
Многим респондентам кажется важным оказывать моральную поддержку тем, кому тяжелее, чем им самим. Еще весной многие остающиеся винили себя в некотором политическом снобизме: они не считали необходимым иметь дело с теми, кто думал по-другому, тогда как, как они поняли теперь, надо было пытаться убедить сомневающихся, перетянуть их на сторону добра. Эта тема сохранилась и осенью:
Разговариваю с людьми, даже незнакомыми. Кто-нибудь задумается. Вода камень точит.
Да, в коллективе и семье высказываю свое мнение, постепенно кто-то начинает сомневаться в том, что все это правильно, и люди, кто тоже против войны, понимают, что вокруг есть адекватные люди.
У меня есть какая-никакая аудитория в социальных сетях. Там я призываю людей всегда проверять всю информацию, сам это делаю и делюсь с людьми тем, что нахожу. Преступления страшнее всего, когда о них молчат.
Для людей, которые любым способом помогают другим и считают, что они делают полезное и нужное дело, это становится способом стабилизировать собственное психологическое состояние, снизить стресс.
Мобилизация: углубление разрыва
После первого шока начинается своего рода привыкание, рутинизация жизни. Да, жизнь никогда не будет прежней, но продолжается. Это относится к представителям обеих групп. Приехавшие в другую страну в первые месяцы заняты преимущественно обустройством, но потом часть респондентов начали активно участвовать в политических акциях, происходящих в их странах, не меньше трети занялись волонтерством, помощью беженцам или стали оказывать им финансовую поддержку. Были те, кто начал делать это в России и продолжил после отъезда.
Рутинизация новой жизни, и в том числе возвращение к гражданской активности, происходила в конце весны — начале осени 2022 года и у остающихся респондентов. Они привыкали к новому образу жизни, к ее новым паттернам. Но случилась мобилизация, эмоции начала весны вернулись, и стало ясно, что дальше может происходить все что угодно, а потому расслабляться нельзя. Страхи снова усилились. Хотя две трети остающихся респондентов ожидали мобилизации, они относились к этому как к гипотетической возможности. И когда она осуществилась в реальности, для большинства это стало большой неожиданностью. Началась новая волна панических отъездов.
Уехавшие тоже думали, что жизнь стала понятной. Большинство респондентов без опаски ездили по делам или отдохнуть в Россию. Но после 21 сентября напряжение выросло. Люди значительно активнее, чем прежде, начали избавляться от российского имущества, приезжать в Россию они теперь считают опасным. Часть моих весенних респондентов летом вернулись в Россию, но после 21 сентября снова уехали. Привычка к новым обстоятельствам была грубо нарушена, и ее возвращение уже вряд ли возможно.
Уехавшие и остающиеся: поломка коммуникации, вопрос вины
Разница между уехавшими и оставшимися несогласными по многим критериям (реакция на начало войны, политические взгляды) не очень велика. Представители обеих групп находятся в сложной ситуации, хотя и по разным причинам. И те и другие уже год испытывают большой стресс, вызванный обстоятельствами, в которых они не хотели оказаться. И у тех и у других жизнь изменилась коренным образом, назад дороги нет. Казалось бы, в политическом смысле это единая группа, внутри которой должно царить согласие и взаимопонимание. Но, к сожалению, это не всегда так. Иногда линией раздела становится понимание коллективной или личной вины и ответственности обеих сторон.
Мои уехавшие респонденты мало говорили об этом. Практически никто из них не обвинял остающихся в большей (по сравнению с ними самими) вине и ответственности. В основном они и сами себя виноватыми не чувствуют: «Мы делали, что могли. Наверное, могли сделать больше, но не очень понятно что».
Более трети уехавших страдают из-за различий с близкими (родителями, родственниками, друзьями) в политической позиции. Иногда накал противоречий достигает такого масштаба, что можно говорить о холодной гражданской войне. Были респонденты, которые со слезами на глазах рассказывали, какими страшными словами награждали их самые близкие родственники из-за того, что они покинули Россию. Слово «предатель(ница)» было еще относительно мягким. Кто-то слышал: «Ты — подстилка Запада».
Это очень тяжело переживалось респондентами. В некоторых случаях происходил полный разрыв отношений, в других временный, а спустя несколько месяцев связь через интернет с разговорами на нейтральные темы восстанавливалась. Есть случаи, когда молодые люди уезжали, не сказав об этом родителям. Это было и весной, и осенью, с началом мобилизации. В первом случае проблема была в самом факте отъезда, во втором — в нежелании (по мнению родных) защищать Родину. Некоторых осуждали друзья — за то, что они из эгоизма предпочли легкий путь (сбежать), не попытались сделать что-то полезное или предпочли таким образом избавиться от ответственности за происходящее.
Намного острее проблему коллективной вины и ответственности переживают остающиеся. Многие из них уверены, что ответственность возлагают только на них. Кто это делает? Те, кто спрашивает их, почему они не уезжают, — этот вопрос воспринимается как укор. Иногда аналогичным образом воспринимаются намеки или открытые высказывания знакомых о том, что находиться в России в ситуации войны безнравственно, в таком случае ты поддерживаешь войну своим молчанием и налогами. Но гораздо чаще речь идет об обсуждениях в соцсетях того, как правильно и неправильно поступать, если ты остаешься. Оставшиеся остро реагируют на высказывания уехавших, осуждающих отсутствие открытых выступлений против войны в России и рассматривающих это как ее молчаливую поддержку. Большинство остающихся несогласных крайне осторожны, поэтому в такой позиции видят прямое обвинение против себя.
Особенно остро воспринимаются упреки со стороны известных людей. Некоторые давно уехавшие эмигранты объясняют остающимся, что они не имеют права жить прежней жизнью, бывать на концертах и в театрах. Если ты находишься в государстве-агрессоре, у тебя нет морального права на развлечения на фоне гибели тысяч мирных людей в соседней стране. Это вызывает у остающихся особенную обиду, тем более что в своей ленте они видят десятки анонсов выступлений российских артистов в разных странах и отзывы на эти мероприятия. «Им можно, а нам нельзя? Но ведь нам жить намного страшнее и тяжелее». Иногда появляются соображения экспертов, что остающиеся только прикрываются невозможностью уехать, на самом деле им не хватает решительности и активности. Остающиеся воспринимают такие слова как попытку вызвать у них чувство вины за происходящее, сняв эту вину с уехавших. Прямых обвинений такого рода может быть немного, но репосты подобных публикаций, тиражирование их фрагментов создают впечатление, что это мнение большинства уехавших. Поэтому тема вины и ответственности вызывает их повышенное внимание, желание оправдаться, а иногда и перейти в наступление.
На прямой вопрос анкеты «Согласны ли вы с мнением, что остающиеся в России люди несут коллективную вину и коллективную ответственность?» только 15% остающихся дали ответ «да» или «скорее да». Остальные 80% так не считают, причем 60% выбрали в качестве ответа твердое «нет». Не согласны респонденты и с тем, что их вина и ответственность выше, чем у уехавших: лишь 8% придерживаются этого мнения, противоположное мнение у 88%.
Остающиеся респонденты не поддерживают риторику коллективной вины и ответственности. Большинство из них полагают, что виноваты не простые люди, как они, а те, кто все это затеял, — власти, президент, сторонники режима, участники спецоперации:
Я не несу ответственность за действия властей, я их не выбирала и голосовала против.
Несут ответственность только те, кто может влиять на ситуацию без смертельной угрозы для себя и близких.
От обычных людей очень мало что зависит, полагают остающиеся. При этом они могут делать что-то полезное для страны и для других (так считают почти 90% опрошенных), но совершенно не могут как-то повлиять на происходящее в России: 32% респондентов говорили, что могут повлиять, 29% — что не могут, а лидировал вариант «затрудняюсь ответить» — его выбрали 39%. Остающиеся считают себя жертвами, заложниками, а не виновниками. Об этом они пишут очень эмоционально:
Люди, не имеющие права выбора и голоса, не могут влиять на ситуацию, соответственно, не могут быть за нее ответственны.
Мы ничего не можем, страх и память 1937 года парализуют.
В нескольких случаях, апеллируя к высказываниям, что остающиеся, даже несогласные, — это немцы в Германии 1943 года, респонденты меняют перспективу:
Мы как евреи в фашистской Германии.
Евреи могли вовремя уехать из Рейха. Но не все имели финансы и оказались в Освенциме. Несут ли они ответственность за то, что оказались там?
Респонденты доказывают, что, если коллективная вина и ответственность существуют, относиться они должны в равной мере и к оставшимся, и к уехавшим. Хотя бы потому, что все происходящие сейчас события назревали давно. А раз так, то между уехавшими и остающимися нет никакой разницы.
Уехавшие тоже во многом чувствуют себя жертвами, хотя и не заложниками. Их поддерживает чувство, что, уехав, они проявили активность, выразили свое несогласие с происходящим. В то же время многие из остающихся, считают они, ничем своей позиции не проявили, поэтому несут бóльшую ответственность. В создавшейся ситуации надо покидать этот «символический плен»: это позволяет действовать, а не просто тихо страдать. Это реальное или гипотетическое обвинение многие остающиеся парируют объяснением, что у них просто нет для отъезда достаточных ресурсов или есть особые обременения. Как бы то ни было, принятие позиции жертвы означает лишение себя субъектности, отказ от нее, а потому и отказ от ответственности. Обстоятельства у многих остающихся несогласных таковы, что эта позиция вполне закономерна.
В ответах части остающихся на анкету есть попытки примирить две стороны, показать, что они принадлежат к одной группе — группе несогласных, внутри которой нет коренных противоречий. Многим претят эти разборки:
И уехавшие, и оставшиеся предъявляют друг другу претензии, перекладывают ответственность друг на друга, это совершенно бессмысленно.
Мы все в беде, мы все в одной лодке. Нет смысла искать коллективных виноватых среди жертв. Так виновные останутся без вины.
Возможное решение проблемы коммуникации между уехавшими и остающимися несогласными точно сформулировано в последней цитате. Хотя жертвенная позиция не предполагает действий, а только легитимирует беспомощность, уехавшим и остающимся необходимо перестать винить друг друга. Намного важнее перевести дискуссии в более конструктивное русло: говорить не о том, кто более виноват, а о том, что нужно делать в нынешней ситуации уехавшим и остающимся в зависимости от их возможностей. Главную роль тут могут играть эксперты, специалисты, лидеры общественного мнения. Необходим анализ, что было сделано неправильно раньше и как правильно поступать сейчас и дальше. А обвинения, поучения и попытки приписать вину другим совершенно непродуктивны.
