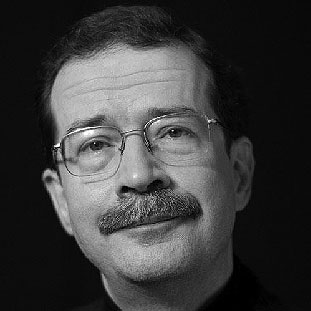Хуже, чем кризис. Как устроена и куда ведет российская экономическая аномалия — 2022
Падение российской экономики в 2022 году оказалось не таким значительным, как предполагали практически все прогнозы. В чем причина российской экономической аномалии? Действительно ли экономика оказалась устойчива к санкциям? Ответ на эти вопросы, с одной стороны, лежит на поверхности, а с другой — требует подробного содержательного анализа. В докладе, подготовленном Re: Russia, российские экономисты разбирают причины и механизмы атипичной реакции российской экономики на санкционный шок, ее последствия и сценарии развития событий в наступившем 2023 году.
Главным фактором, позволившим прервать стандартное развитие экономического кризиса, стали аномально высокие доходы от экспорта энергоресурсов — максимальные за всю историю страны. Введенные санкции разогнали масштабы торгового профицита еще больше. В результате, в экономике наблюдался избыток денег даже несмотря на гигантский отток капитала. Это и стало основным фактором атипичного кризиса. Через разные каналы (крепкий рубль, льготы, кредит, бюджетный стимул) эти деньги позволили смягчить действие кризисных факторов, прежде всего — последствия оттока капитала, и стимулировать отдельные сектора экономики. В итоге, в то время как одни отрасли пережили двукратное сокращение, рост в других достигал 20%.Это не значит, однако, что экономика «выстояла» и преодолела санкционный удар. Оптимистические показатели отражают не реакцию экономики на возникшие дисбалансы, а эффект мобилизации сверхдоходов. В то время как созданные санкциями и войной дисбалансы сохранились. И по мере того, как доходы будут сокращаться, экономика столкнется с тем самым набором проблем, которые характеризуют стандартный экономический кризис, — инвестиционный голод, девальвация, хронический бюджетный дефицит и сжатие спроса. Кризис, связанный с массированным оттоком капитала и изоляцией российской экономики от значительной части международных рынков и финансовой системы, для российской экономики не позади, а впереди. Этот кризис будет усугублен необратимыми изменениями приоритетов экономической политики. И вопрос только в том, в каких формах он будет протекать — хронических или острых.
Содержание
Атипичный кризис: механизмы, последствия, сценарии (резюме)
Олег Ицхоки. Кризисное изобилие: почему не случилось коллапса российской экономики и стоит ли ждать его в будущем?
Олег Вьюгин. Факторы «смягчения» 2022 года и кризисные факторы 2023-го
Евсей Гурвич. Замещение в выпуске, отток инвестиций и фактор неопределенности
Андрей Яковлев. Российская экономическая аномалия: адаптивность, рынок и административный торг
Атипичный кризис: механизмы, последствия, сценарии
Сокращение российской экономики в 2022 году оказалось в разы меньшим, чем прогнозировалось абсолютно всеми экономистами и экспертами, включая российский Центробанк и международные организации. Впрочем, вопреки бытующим представлениям, фактические потери российской экономики в результате вторжения в Украину и беспрецедентных международных санкций составили в 2022 году 5,5–6% ВВП. К концу 2021 года на волне постковидного восстановления и роста экспортных доходов экономика вышла на темпы роста выше 5%, и хотя в 2022 году рост должен был замедлиться, 3% годового прироста выглядели совершенно реалистично. Таким образом, адекватная оценка потерь экономики — это разница между ее ожидаемым ростом и фактическим сжатием (2,5–3%). Однако полученная цифра потерь все равно в 2–2,5 раза меньше, чем потери при ожидавшемся сокращении ВВП в 2022 году на 8–12%. На фоне все более оптимистических данных относительно состояния российской экономики МВФ в последнем прогнозе даже предположил ее восстановительный рост на символические 0,3% в 2023 году.
Парадокс сложившейся ситуации в том, что показатели российской экономики, которые выглядят гораздо лучше ожиданий, не свидетельствуют о том, что экономика устойчива к факторам кризиса. Они свидетельствуют о том, что существуют обстоятельства, которые подавляют естественную реакцию экономики на эти факторы. Таким обстоятельством в 2022 году стали аномальные доходы от экспорта энергоносителей. Экономика не «справилась с санкциями», она в силу действия отмеченного обстоятельства в слабой мере почувствовала их. И между этими двумя оценками есть принципиальная разница.
В нашем предыдущем докладе, посвященном анализу эффекта широких международных санкций, мы писали, что страны, способные противостоять таким санкциям, в долгосрочном периоде несут гораздо бóльшие потери. Их экономическая (и политическая) система консервируется, мобилизуется под задачу противостояния санкциям («экономика сопротивления»). Общество адаптируется к длительному существованию в условиях антисанкционной мобилизации, но, в результате, на длительный период лишается потенциала и инструментов развития. Потому что принимает за данность наличие важных для экономического развития ограничений. Так, Иран, находящийся под санкциями с 1979 года, так до сих пор и не достиг уровня ВВП на душу населения, который имел 50 лет назад — в начале 1970-х годов.
Экономический кризис, проявляющий себя в значимом сокращении валового продукта и доходов граждан, — это проявление сложившихся в экономике дисбалансов. Это болезненный эффект, который подталкивает экономических субъектов и общество в целом к тому, чтобы найти способ исправления таких дисбалансов. Наличие обстоятельств, которые позволяют в определенном периоде смягчать проявления кризиса, не устраняя дисбалансов, — это максимально неблагоприятный в долгосрочной перспективе сценарий. Если у вас болит живот, и это аппендицит, а вы глотаете огромное количество обезболивающих, то боль может утихнуть, но ваш шанс умереть стремительно возрастает. В то время как операция по удалению аппендицита, хоть неприятна в моменте, является простой и стандартной процедурой.
Динамика ВВП на душу населения в мире, Иране, Кубе, Мексике и Турции, 1972–2021, доллары США
Иран и Мексика в начале 1970-х находились на одном уровне развития, имея ВВП на душу населения несколько выше среднемирового. Несмотря на иранское преимущество нефтяного экспорта, Мексика через 50 лет имеет ВВП на душу населения несколько ниже среднемирового, но почти вдвое превосходящий показатели Ирана, который, оказавшись под санкциями в 1979 году, так и не достиг пока уровня благосостояния начала 1970-х. Турция и Куба также имели в начале 1970-х близкие результаты. И хотя Куба, находящаяся под санкциями, удвоила свой показатель за 50 лет, она почти не сократила разрыв со среднемировым ВВП на душу населения. В то время как ВВП на душу населения в Турции вырос за тот же период в 3,8 раза и превысил среднемировой на 20%.
Сценарий атипичного кризиса
Олег Ицкохи в своем разделе показывает, как работает стандартная модель развития экономического кризиса и почему она не реализовалась в России-2022. Обычно неблагоприятные события, вызывающие кризис, провоцируют резкий отток капитала из страны и обесценивание национальной валюты. Реагируя на это, резиденты совершают «набег на банки» в попытке спасти свои сбережения, это провоцирует кризис финансовой системы. Резкое сжатие кредита приводит к остановке производств и невозможности предприятий исполнять контракты. Кроме того, дефицит текущего счета заставляет государство и экономических агентов сокращать свои обязательства, урезать расходы, а это ведет к дальнейшему сжатию экономической активности, снижению спроса и росту безработицы.
Однако в российском случае 2022 года главным фактором, предотвратившим такой сценарий, являлись исключительно высокие доходы экономики от экспорта энергоресурсов. Более того, негативный шок санкций (обвал импорта, сокращение связей с западными экономиками, отток капитала) сопровождался дополнительным ростом этих доходов вследствие дальнейшего роста цен на энергоресурсы. Это и стало основным антикризисным фактором, действовавшим в противоположном направлении.
На первом этапе, показывает Олег Ицхоки, сочетание фундаментального фактора — большого положительного сальдо торгового баланса и административные меры ЦБ, который просто закрыл на некоторое время банковскую систему, — предотвратили «набег на банки» и кризис финансовой системы. А резкое сокращение импорта привело к тому, что положительное сальдо торгового баланса достигло гигантских размеров: экспортные доходы росли, а расходы на импорт резко сократились. Экономика потребляла гораздо меньше того, что (в стоимостном выражении) она «производила».
По сути, полуизолированная от внешнего мира экономика была залита деньгами. В такой ситуации государство не только не нуждалось в ограничительных мерах по расходам (austerity measures), но, напротив, широко предоставляло льготы предприятиям, а затем и наращивало расходы. Однако и прочие экономические агенты в большинстве слабо чувствовали давление кризиса — продолжали исполнять контракты, выплачивать зарплаты даже в условиях резкого падения производства и пр.
Несмотря на это, неверно говорить, что санкции не работают. Однако различные блоки санкционной политики могут действовать в разных направлениях. В результате, например, выяснилось, что санкции против импорта не усиливают, а смягчают эффект финансовых санкций, введенных одновременно с ними. Но главное, что в ситуации изобилия внешнего финансирования даже мощные шоки, которые в норме вызывают цепочку негативных последствий, оказываются сглажены, а механизмы трансмиссии кризиса подавлены. В данном случае, помимо прерывания импорта, наиболее мощным шоком стал отток капитала, однако невероятный приток экспортного финансирования помог экономике не заметить этого шока.
Доходы, запасы, крепкий рубль и бюджетный стимул
Олег Вьюгин в своем разделе показывает, как этот сценарий атипичного кризиса работал в реалиях российской экономики. По его мнению, кардинально смягчили эффект санкционного шока четыре основных фактора.
Прежде всего, как уже было сказано, это высокие доходы от экспорта нефти и газа: в стоимостном выражении они выросли почти в полтора раза (с $245 млрд в 2021 году до примерно $345 млрд). Руководство ФТС заявило, что в 2022 году в целом российский товарный экспорт вырос в стоимостном выражении на 18%. Таким образом, он должен был достичь $580 млрд, что является абсолютным рекордом: среднегодовые экспортные доходы России от торговли товарами в 2000-х годах составляли $225 млрд, а в 2010-х — $430 млрд.
Вторым фактором стали накопленные складские и финансовые резервы, образовавшиеся по итогам 2021 года. Как уже было сказано, постковидное восстановление и рост цен на энергетические товары позволили экономике выйти к концу 2021 года на темпы роста около 5%. Экономические агенты формировали запасы в расчете на рост. Сальдированный финансовый результат предприятий по итогам 2021 года примерно в три раза превышал результат предыдущего. Это повышало их устойчивость к шоку. Резкое падение прибыли корпоративного сектора проявило себя лишь к третьему кварталу 2022 года.
Третьим фактором стала активная переориентация внешней торговли на страны, не присоединившиеся к санкциям (прежде всего — азиатские). Наличие финансовых ресурсов и крепкий рубль сделали возможным быстрое наращивание импортных поставок по новым каналам. Укрепление рубля, ставшее результатом роста торгового профицита, увеличило финансовые ресурсы корпоративного сектора в долларовом выражении, что и стало главной причиной быстрого восстановления импорта. Наконец, четвертым фактором стало мощное наращивание государственных расходов, которые выросли на 25% по сравнению с предыдущим годом: экономические власти мобилизовали и влили в экономику около 5,5 трлн рублей (4% ВВП в ценах 2021 года), сыгравших роль бюджетного стимула беспрецедентного масштаба.
Устойчивость выпуска и скрытое перераспределение
Евсей Гурвич, объясняя механизмы смягчения шока, связанного с обвалом импорта, и улучшения показателей выпуска промышленной продукции, показывает, как в этих показателях скрыты потери в благосостоянии населения.
Фактор запасов играл огромную роль на первом этапе кризиса; в результате во втором квартале 2022 года прирост запасов материальных оборотных средств оказался на 1,1 трлн. рублей меньшим, чем годом ранее. Это позволило предприятиям справиться с первоначальным шоком. Кроме того, резкое сокращение импорта стимулировало процессы импортозамещения. В экономической статистике они отражаются как рост выпуска в соответствующих отраслях, но в то же время являются потерей в благосостоянии граждан: они вынуждены замещать выпавшие импортные товары другими, которые представлялись им раньше неоптимальными с точки зрения цены-качества. Стандартная экономическая статистика не отражает этих потерь, но расчеты показывают, что в целом они достигают очень значительных масштабов. Стоит иметь в виду, что эти потери будут нарастать со временем в условиях ограниченной конкуренции доступного импортного предложения.
Третьим фактором, микшировавшим сокращение выпуска, стало наращивание производства в оборонной промышленности, которое позволило обрабатывающему сектору продемонстрировать не столь сильное падение по итогам года (–4,6% в целом при падении в отдельных отраслях на 15–50%). Однако, как и в предыдущем случае, речь идет о потерях в благосостоянии граждан: резкое падение производства в отраслях, производивших потреблеямые ими товары (автомобили, бытовая техника, лекарства), компенсировалось ростом выпуска продукции, которая к потреблению не имеет никакого отношения (прежде всего в оборонной промышленности). Здесь вновь экономическая статистика скрывает процесс перераспределения издержек между различными секторами и экономическими агентами. В итоге, граждане не осознают, что оптимистические показатели экономической статистики не результат ее «здоровья», а отражение долгосрочных потерь в их благосостоянии.
Добавим к этому, что в условиях демократии или более сбалансированной и плюралистичной политической системы вопросы о том, имеют ли эти потери в благосостоянии граждан смысл, достаточно ли важны цели, ради которых делается выбор в пользу такого сценария, обязательно стали бы предметом острой дискуссии. Однако в условиях репрессивного авторитарного режима граждане не имеют возможности повлиять на выбор целей и стратегий государственной политики и защитить себя от подобного перераспределения издержек.
Так или иначе разброс динамики различных отраслей хорошо иллюстрирует и эффект «перераспределения», и атипичность российского кризиса. В норме, реагируя на макроэкономические условия, различные отрасли и сектора движутся, хотя и с разной скоростью, но в одном направлении. В российской промышленности 2022 года мы наблюдаем одновременно как обвал в одних отраслях, так и компенсирующий его в агрегированной статистике значительный рост в других.
Отрасли максимального роста/снижения выпуска в обрабатывающей промышленности в 2022 году, объем выпуска в % к декабрю предыдущего года
Модель выживания: кризисная адаптивность и долгосрочная стагнация
Андрей Яковлев обращается к анализу микроуровня — антикризисных стратегий предприятий и регулирующих органов — и показывает, что кризис является своего рода нормой и modus vivendi российских предприятий. Они вынуждены быть постоянно готовыми к решениям, которые отвечают на созданные для них властями нерациональные и дискомфортные условия, на резкие перепады макроэкономических условий, связанных с волатильностью цен на нефть, и пр. Такая готовность требует от них экономически неоптимального поведения: поддержания нерационально высоких запасов, сохранения работников, которые в данный момент не нужны, и пр. Однако именно это экономически неоптимальное поведение позволяет им выживать в условиях очередного кризиса или турбулентности. В результате, происходит специфический «естественный отбор» предприятий, условием успеха в котором является выбор в пользу стратегии выживания, а не стратегии развития.
В то же время российские экономические власти, в течение последних 15 лет имевшие дело по крайней мере с тремя крупными кризисами, постоянно наращивали навыки антикризисной экономической политики, ставшие важнейшим элементом их профессиональной ориентации. Пакеты антикризисных мер становились все более отработанными и вводились все более оперативно. Весной 2022 года, наряду с экстраординарными мерами ЦБ по стабилизации валютного рынка, правительство оперативно использовало механизмы господдержки, которые уже были отработаны и показали свою эффективность в прошлом кризисе — в 2020 году. К этому можно добавить, что в экономической политике 2010-х годов вообще цели «устойчивости», то есть готовности к кризису, превалировали над целями «развития», то есть максимизации роста экономики. Это проявлялось, в частности, в том, что экономические власти настороженно относились к притоку внешнего финансирования, опасаясь в своем «кризисном мышлении», что его отток усилит эффект ожидаемого кризисного события.
Более того, в России выработалась специфическая модель антикризисного управления, в рамках которой сверхцентрализованная система управления в критических ситуациях проявляет гибкость, передавая полномочия на уровень регионов, и включает механизмы координации местных властей и бизнеса, пишет Андрей Яковлев. Иными словами, система управления настроена таким образом, что сдерживает за счет сверхцентрализации потенциал развития экономики, но в то же время накапливает значительный ресурс противостояния кризисам и адаптации к ним. В конечном итоге эта кризисная адаптивность позволяет сохранять сдерживающую экономику сверхцентрализованную модель в длительном периоде, определяя траекторию долгосрочной стагнации. В последнее десятилетие экономика России росла темпами около 1% в год (при темпе роста мировой экономики 2,6%), 2021 год улучшил этот показатель до 1,5%, однако кризис 2022-го возвращает долгосрочные темпы обратно к норме стагнации.
Кризис позади или впереди?
Даже нормализация экспортных доходов, то есть сокращение их на $100–150 млрд, начнет раскручивать сжатую в прошлом году спираль кризиса в обратном направлении.
Макроэкономическая ситуация в 2023 году будет принципиально отличаться от 2022-го, пишет Олег Ицхоки. 2022 год был годом импортных санкций, разрушения и перестройки цепочек поставок в условиях избыточного финансирования и колоссального притока валютных доходов. 2023 год, наоборот, станет годом относительно адаптированных цепочек поставок, но одновременно и годом снижения экспортных доходов и валютного финансирования в условиях постоянного бюджетного дефицита. В этом смысле 2023 год может оказаться гораздо более похожим на типичный кризисный эпизод (sudden stop), когда экономика страдает от сокращения притока капитала, давления девальвации и нарастающих проблем с финансированием всей экономики — и банковской, и производственной ее части.
Чистый отток частного капитала, по расчетам ЦБ, составил в 2022 году $250 млрд, то есть примерно 12% ВВП, и стал рекордным за всю историю. Однако в прошедшем году его эффект компенсировался профицитом внешней торговли, практически равным ему по объему ($280 млрд), что позволило наращивать государственные расходы, поддерживало банковскую систему и доступность кредита, а также доступность импорта за счет крепкого рубля. Сокращение профицита в следующем году повысит напряжение по всем этим направлениям, и вопрос состоит только в масштабах этого сокращения и, соответственно, остроте нарастающих проблем.
Основным фактором макроэкономического риска в 2023 году является истощение немонетарных источников макроэкономической стабильности, пишет Олег Вьюгин. Достижение в 2023 году планового уровня нефтегазовых доходов в 8 трлн выглядит все более проблематичным. Так, в январе 2023 года доходы бюджета сократились на треть по сравнению с январем прошлого года, в то время как расходы увеличились на 60%. Бюджетный стимул, задействованный в этом году и ограничивший спад, будет трудно обеспечить в следующем году без инфляционных последствий. А попытки мобилизовать внутренние заимствования сверх запланированных 3 трлн рублей потребуют слишком активного задействования пирамиды рефинансирования ОФЗ в операциях РЕПО с Банком России.
Таким образом, для выполнения планов по финансированию бюджетных расходов придется привлечь из ФНБ не 3 трлн рублей, а 6 трлн, что в нынешних обстоятельствах тоже можно отнести к монетарному финансированию дефицита бюджета. Это создаст риск разворота инфляции к росту, и ЦБ придется повышать ставку рефинансирования. Благодаря инерционности инфляционных процессов и наличию запаса финансовых ресурсов в государственном и корпоративном секторе шансы пройти 2023 год без разрушения финансовой стабильности сохраняются, но в следующие годы без существенного урезания государственных расходов она будет фатально разрушена.
Помимо оттока капитала, определяющего недостаток инвестиционных средств, дополнительным ограничением финансирования в реальном секторе станет «вытеснение инвестиций» (crowding out), то есть замещение их государственными заимствованиями, пишет Евсей Гурвич. Здесь накладываются несколько процессов: с одной стороны, увеличение долгового финансирования бюджетного дефицита, с другой, выход зарубежных инвесторов как из валютных, так и из рублевых государственных облигаций. Это означает, что властям придется не только обеспечивать дополнительные чистые заимствования, но еще и замещать уходящий с рынка госдолга иностранный капитал дополнительными внутренними заимствованиями.
Помимо этого, существует ряд структурных и конъюнктурных рисков. Так, достаточно значимым фактором выглядит дефицит квалифицированных трудовых ресурсов, который уже в текущем году внес свой вклад в сдерживание экономической динамики и рост зарплатных издержек. Новые волны фронтовой мобилизации и бегства населения от нее будут его увеличивать. Кроме того, если импорт современного оборудования и трансферт технологий останутся недоступными из-за технологических санкций, то в динамике производительности труда начнет проявлять себя нарастающая технологическая отсталость промышленности. Наконец, население страны сосредоточено в ее европейской части, а логистическая инфраструктура торговли была ориентирована на извлечение преимущества из соседства с Европой и интеграцию с европейскими рынками. Теперь и импорт, обеспечивающий потребление, и экспорт идут преимущественно через Азию, это увеличивает транспортное плечо и создает потребности в создании новой инфраструктуры и соответствующих инвестициях.
Определенность неопределенности и необратимые изменения
Еще один важный фактор, который редко учитывается в экономических прогнозах, но, в действительности, оказывает огромное влияние на поведение экономических агентов и экономическую политику, — это неопределенность, пишет Евсей Гурвич. Этот фактор трудно измерить, но высокая неопределенность толкает бизнес к тому, чтобы откладывать решения об инвестициях и приеме работников, банки — повышать кредитные ставки, включая в них дополнительные риски, а граждан — накапливать сбережения за счет сокращения потребительских расходов. Кроме того, неопределенность резко снижает эффективность инструментов экономической политики, в силу чего правительству и Центральному банку приходится прибегать ко все более сильным мерам.
В 2022 году степень неопределенности была максимальной со времен дефолта 1998 года, что проявлялось в рекордном размахе колебаний курса доллара и многократном пересмотре оценок годового спада ВВП. Однако в следующем году эффекты неопределенности поменяют свой знак. И это усилит риски, связанные с экономической политикой. Вряд ли кто-то может сейчас сказать, будут ли в ближайшей перспективе повышаться налоги (скорее — да), какие новые санкции будут вводиться и какие шаги российские власти будут вынуждены предпринять в ответ на изменение конъюнктуры.
Весьма вероятно, что высокая неопределенность и ухудшение конъюнктуры спровоцируют попытки ограничений степеней свободы экономических агентов (введения элементов планирования, усиления государственного регулирования и т.п.), пишет Гурвич. Напряжение государственных финансов и другие риски, ведущие к ухудшению экономического положения и падению реальных доходов населения, могут вызвать ответную реакцию властей — дальнейшее повышение налогов и усиление государственного влияния на коммерческий сектор, что, в результате, усугубит снижение эффективности производства, вторит ему Олег Вьюгин.
Основная тенденция сейчас состоит не в движении навстречу кризису, а в постепенной «советизации» экономики в надежде его избежать, резюмирует Гурвич. Этот общий тренд имеет множество проявлений: быстрое отгораживание российской экономики от мировой, повышение формальной и неформальной роли государственного сектора, увеличение бюджетных расходов на оборону и безопасность и расширение военного производства.
Природа этой «советизации» связана не со стремлением отказаться от рыночной экономики как таковой, но с наличием политических целей, которые безусловно превалируют над экономическими. Это задачи противостояния Западу и санкциям, во-первых, и милитаризации страны и экономики, во-вторых. При этом курс милитаризации выглядит стратегическим выбором, который останется в ряду первичных целеполаганий даже в случае, если активные боевые действия в Украине прекратятся в этом году. В этом смысле экономическая политика действующего в России режима претерпела необратимые изменения, последствия которых в прошедшем году — опять же — были задрапированы рекордным рентным финансированием. В результате, наращивание военного производства парадоксальным образом помогало экономике демонстрировать отсутствие кризиса. Но уже в следующем году конфликт политических приоритетов и экономической целесообразности проявит себя достаточно остро.
Кризисное изобилие: почему не случилось коллапса российской экономики и стоит ли ждать его в будущем?
Классическая модель кризиса: «набег на банки»
Когда говорят «кризис», подразумевают, как правило, какой-то одномоментный коллапс, который часто имеет форму банковского или финансового кризиса, либо действительно резкое падение экономики — остановку большого числа производств. То, что мы наблюдаем в российской экономике, является скорее медленным сползанием вниз — за исключением первого месяца войны, марта, когда на самом деле все происходящее выглядело как банковский, финансовый и валютный кризис одновременно.
Оказалось, что в российской экономике есть три фактора, которые действовали в этой комбинации войны, санкций и накопленных экономических условий: во-первых, это огромный профицит торгового баланса, во-вторых — профицит бюджета, который также был связан с высокими экспортными ценами на энергоносители, в-третьих, российская экономика не была долларизована.
И когда экономисты спрашивают, почему не реализовались равновесия с набегом на банки и последующим банковским и финансовым кризисом, то возникает встречный большой вопрос. Может ли вообще такой кризисный сценарий реализоваться при наличии данных трех условий: профицита торгового баланса, профицита бюджета и отсутствия долларизованных контрактов внутри экономики? Если бы любого из этих факторов не было, то масштабный финансовый кризис был бы весьма вероятным сценарием.
Но есть и второе обстоятельство. Когда мы думаем про «набег на банки» как спусковой крючок кризиса с помощью экономических моделей, мы не предполагаем (см., например, модель Даймонда–Дибвига, за которую они получили Нобелевскую премию в 2022 году), что государство может просто взять и «закрыть» банковскую систему на несколько недель. В экономических моделях планировщик этого допускать не хочет, поскольку если банковская система поставлена на паузу и невозможно получить финансирование для потребления и инвестиций, это слишком сильно влияет на благосостояние людей. А Центральный банк России фактически остановил функционирование банковской системы. Почему в российской экономике оказалось возможным закрыть банковскую систему на недели и таким образом ее стабилизировать? Почему российскому Центробанку настолько проще это делать: захотел — поднял процентную ставку до 20–25%, захотел — вообще запретил банкам выдачу денег населению. Конечно, это очень мощный инструмент с точки зрения остановки банковского кризиса, но почему этот инструмент обычно недоступен в других странах? Это существенный вопрос для экономического моделирования.
Комбинация фундаментальных факторов, в первую очередь колоссальный торговый профицит в результате рекордных экспортных доходов и снизившегося импорта, и агрессивная политика по стабилизации банковско-финансовой системы в совокупности позволили избежать равновесия с набегом на банки, которое существенным образом изменило бы весь макроэкономический ландшафт России в 2022 году. В результате после стабилизации банковской системы вместо острого кризисного сценария реализовался инерционный макроэкономический сценарий с постепенным сжатием и стагнацией экономики.
Парадокс санкций в условиях торгового профицита
Дальше российская экономика оказалась в ситуации, когда в течение месяцев экспорт был в несколько раз выше импорта. Существенный профицит торгового баланса наблюдался еще в 2021 году по мере роста цен на энергоносители в результате выхода из ковидного кризиса и ожидания войны, нараставшего в конце года. А с марта этот профицит увеличился кратно, как из-за существенного скачка цен на энергоносители, так и вследствие санкций, сокративших российский импорт вдвое. По результатам 2022 года профицит торгового баланса в долях ВВП будет больше 10%. И это больше, чем в Китае на пике экспортного роста середины 2000-х годов.
Поскольку экспорт — это часть производства, а импорт — часть потребления, такая ситуация означает, что разрыв между выпуском и потреблением — более 10% ВВП. Это беспрецедентный разрыв, наличие которого объясняет, почему не случилось ситуации (экономисты называют ее «sudden stop» — «внезапная остановка»), когда происходит резкий отток капитала на фоне дефицита торгового баланса и это провоцирует финансовый кризис.
Обычно кризис случается в ситуации торгового дефицита. Например, в Греции в начале 2010-х годов, в Аргентине в 2001 году и во многих других случаях, где накладывались два фактора: большой торговый дефицит и остановка притока капитала (кредитования). В России была принципиально другая ситуация: с одной стороны, действительно, заимствовать на международных рынках было нельзя, но заимствовать никому и не нужно было. И в этом огромное отличие России от других стран — ей не нужно было вводить режим жесткой экономии («austerity»), которому приходится следовать странам в условиях, когда приток денег заканчивается, а торговый баланс находится в дефиците. Государству не нужно было проводить политику «austerity», когда недовыплачиваются или снижаются зарплаты и пенсии, чтобы справляться либо с дефицитом торгового баланса, либо с бюджетным дефицитом. В России была обратная ситуация — приток валюты колоссальный, а купить многие импортные товары нельзя.
Оказалось, что комбинация финансовых и импортных санкций в отсутствие экспортных санкций просто очень плохо работает в короткой перспективе. Это не значит, что санкции не работают или не эффективны. Это большой вопрос — были ли санкции эффективными с точки зрения западных стран? И на него нельзя ответить быстро. Но можно констатировать, что комбинация импортных и финансовых санкций (при отсутствии экспортных) не достигает целей, если цель — это финансовый кризис. Она, наоборот, финансовый кризис оттягивает. Потому что сохраняется приток денег от экспорта, но нет возможности их тратить, а значит, нет нехватки финансирования и не нужно проводить политику «austerity», которую с огромными трудностями проводила Европа в 2010–2012 годах.
Если на это накладываются экспортные санкции, то у страны есть большая потребность «занимать», чтобы с этими санкциями справиться. В этом случае отсекаются источники дохода, альтернатива им — заимствования. Но так как потребности брать в долг нет, то финансовые санкции не дают значимого эффекта.
В этом смысле, мне кажется, комбинация санкций против России после вторжения в Украину была такой, которая была политически возможна для западных стран, а не такой, которая могла привести к финансовому кризису в России. Импортные санкции медленно и планомерно работают на снижение производственного потенциала, но не дают острых кризисных проявлений.
В целом у нас есть теперь понимание, что импортные санкции частично нивелируют эффект финансовых санкций, а экспортные санкции, наоборот, его усиливают (наша с Дмитрием Мухиным новая статья объясняет это теоретически). Это не означает, что импортные санкции не работают, но они сглаживают потенциальный кризисный эффект от финансовых санкций, снижая дефицит валюты на внутреннем рынке.
Парадоксы кризисного изобилия
Еще один парадокс: почему не произошло домино банкротств? Некоторые нарушения контрактов были, в том числе, например, дефолт по лизинговым контрактам всех самолетов. Но в другую сторону, не в сторону России: был дефолт России в сторону ирландских фирм. Но почему в российской экономике не произошла волна дефолтов, когда фирмы говорили бы: «Обстоятельства изменились, мы не можем больше платить»? В принципе, потенциально волна нарушений контрактов могла быть — если какие-то контракты нарушены, почему цепочкой не рушатся другие?
Видимо, ответ здесь такой же — в экономике было очень много денег. Нарушать контракты имеет смысл, когда денег мало и их не хватает, а когда экономика залита деньгами, видимо, можно позволить себе бизнес «as usual», даже несмотря на то что какие-то контракты были вынужденным образом нарушены войной.
Рынок труда — это еще один большой парадокс. Мы видим в данных, что часть производств остановилась, например многие отрасли машиностроения упали на 80% и более. Для меня большая загадка, как может быть, что целая группа производств может просто остановиться на месяцы и это не приводит ни к каким кризисным явлениям? Почему мы не увидели в данных никакого всплеска безработицы? Понятно, что на многих предприятиях это какая-то «полузанятость», а не полная занятость. Но хочется понять количественно эту ситуацию: как возможно, что целый ряд технологических производств остановился, а безработицы нет.
Это большая загадка, как рынок труда может находиться в таком состоянии. Вероятно, это нерыночное равновесие, которое объясняется тем, что, опять же, деньги есть, государство раздавало в первые месяцы довольно много субсидий компаниям напрямую из бюджета. И получается, что острой потребности увольнять не было. Но что произошло с более мелкими предприятиями? Если с большими предприятиями понятно — они координируют свою политику занятости с государством, то почему у нас не было безработицы, вызванной увольнениями с более мелких предприятий? У меня нет хорошего объяснения, что происходило с рынком труда и какими механизмами это компенсировалось.
Еще один парадокс — каким образом это все сходится в ВВП, если есть ряд отраслей, которые падают на 30–90%, а ВВП падает лишь на 3%. Возможно, все эти отрасли имеют очень малый вес в структуре производства, но это кажется маловероятным или удивительным.
Необходимо, естественно, учитывать, что были и отрасли, которые выросли в результате ограничения импорта и замещения его собственным производством. Если нельзя купить импортные товары и услуги, то растет спрос на внутренние товары и развлечения, внутренние путешествия. Это отрасли, где я ожидал бы более существенного роста, чем тот, что показывают данные. И это тоже удивительно. То есть те шоки, которые мы видим и которые связаны с масштабным падением импорта, в действительности, достаточно слабо отражаются в российской экономической статистике.
Похоже, что мы наблюдаем ситуацию, в которой есть большое количество мощных шоков, но каким-то образом, когда все они сложились, кризисного падения ВВП и занятости не произошло. И опять же: это, может быть, не так удивительно на фоне высоких доходов от экспорта и того, что в результате потребительский спрос оставался на высоком уровне. Обычно, когда мы говорим про кризисы в западных экономиках, они связаны с тем, что внутренний спрос сильно сжимается вследствие роста неопределенности и снижения потребления в пользу сбережений. В России, надо констатировать, внутренний спрос в результате всех этих шоков упал не слишком значительно.
Теперь импорт восстанавливается, мы это видим из данных других стран. Он упал в два раза к маю, а к августу он восстановился больше чем на половину от этого, то есть до 75–80% от предвоенного уровня. А из ряда стран — например, Турции — импорт вырос в три-четыре раза. Хотя сейчас это вопрос композиции: переплачивают ли за те же самые товары, доставленные теперь через Турцию, или приходится покупать товары более низкого качества? Возможно, расходы на импорт выросли во многом из-за более высоких цен и дополнительных логистических и транспортных издержек, а объемы импорта в действительности сократились сильнее. Тем не менее можно предположить, что основная часть импорта, за исключением отдельных категорий, за которыми пристально следят, так или иначе со временем восстановится.
Но уже с 2023 года основные внешние ограничения будут связаны со сжатием экспорта, а не импорта. То есть импорт в долгосрочной перспективе будет низким, но не потому что нельзя будет обойти ограничения (они по узкому кругу товаров будут существовать, но для общего импорта это не так важно). Главные ограничения будут связаны с тем, что Россия потеряет часть экспортных доходов, и импорт не сможет расти уже по этой причине.
Парадокс валютного курса
Сегодняшний обменный курс в России вполне можно назвать рыночным. В частности, у Центрального банка есть сильные ограничения в том, как он может на этот курс влиять. Центробанк хотел бы, чтобы курс был слабее, но в данных условиях это сложно сделать (подробнее об этом написано в нашей с Дмитрием Мухиным статье «Санкции и обменный курс»).
В то же время этот курс не вполне рыночный. Что в нем нерыночное? Он перестал быть инвестиционным. То есть иностранные инвесторы больше не могут инвестировать в рублевые активы. Это означает, что международный финансовый сектор больше не дисциплинирует динамику курса рубля — и рубль в основном реагирует на текущие факторы, а не на ожидания будущего. Международные спекулянты могли бы в течение года играть на понижение рубля в ожидании экспортных санкций, вступающих в силу в декабре 2022 года и феврале 2023-го, но они в этом рынке больше не участвуют. У российских же вкладчиков ограниченные возможности заниматься подобного рода спекуляциями.
Но при этом торговый баланс остается как равновесное условие, и остается внутренний спрос на валюту и на рубли. Потому что сейчас, в принципе, ограничения внутри России, которые были введены весной и которые экономисты назвали «финансовыми репрессиями», практически убраны. В этом смысле российские домашние хозяйства и фирмы могут решать, в какой валюте им сберегать, и вот это равновесное условие вполне себе присутствует. Но так или иначе сейчас обменный курс определяется, в первую очередь, торговым балансом экспорта и импорта. Колоссальный профицит — это приток валюты.
У Центрального банка отняли инструмент, которым он всегда сглаживал обменный курс. То есть ЦБ после заморозки активов и попадания под санкции не мог продолжать обычную политику покупки и продажи валюты, чтобы сглаживать обменный курс. Поэтому обменный курс сначала ушел до 125–130 рублей за доллар и появился параллельный розничный курс, который доходил до 150 рублей за доллар. Поскольку Центральный банк потерял инструмент его сглаживания, им пришлось вместо простого инструмента покупки-продажи валюты использовать необычные инструменты финансовых репрессий (ограничения конвертации валюты, снятия со счетов, удержания валютной выручки, вывода валюты за границу). И весь март и апрель — это был период финансовых репрессий плюс очень высокая процентная ставка по рублям. Такие меры со стороны ЦБ позволили стабилизировать спрос на валюту. А уже начиная с марта и в особенности в апреле это был профицит торгового баланса, который определял, почему рубль такой крепкий.
Теперь у ЦБ остались очень ограниченные инструменты, чтобы манипулировать курсом. Их, по большому счету, два. Один — это печатать деньги. Но это просто монетарная политика, ее ослабление, которое со временем приведет к девальвации, а не что-то связанное с обменным курсом. Чтобы непосредственно влиять на курс, ЦБ должен покупать валюту на рынке.
В то же время, как я понимаю, ЦБ не очень хочет покупать валюту, потому что опасается дополнительных раундов санкций. И в этом смысле инструменты влияния у него достаточно ограничены. Поэтому мне кажется, что об этом курсе надо думать как о равновесном, определяемом в первую очередь балансом экспорта и импорта. И со временем, по мере того как экспорт будет снижаться в результате новых санкций, мы увидим девальвацию.
Станет ли 2023-й годом классического кризиса?
Как представляется, ключевым фактором, обеспечившим относительно слабое воздействие санкционных мер на экономику, стали аномально высокие доходы от экспорта, антикризисный эффект которых был усилен ограничениями на импорт. В такой ситуации эффект финансовых санкций был нивелирован, а эффект многих стандартных шоков оказался ослабленным. Не возникло значительной проблемы в связи с оттоком капитала, в частности — необходимости в политике экономии («austerity»), не случилось сильного, по-настоящему кризисного сжатия внутреннего спроса. Те же эффекты наблюдаются и на уровне фирм, которые не стояли перед необходимостью ни отказываться от выполнения контрактов, ни срочно и массово увольнять работников. Административные решения — возможность произвольно «закрыть» банковскую систему на некоторое время — также сыграли свою роль, но скорее краткосрочную.
Курс рубля перестал был опережающим индикатором, поскольку он во многом отрезан от международного инвестиционного рынка, и таким образом остался в основном рыночным, но в первую очередь отражает сейчас текущую ситуацию с торговым балансом, а не общую ситуацию в экономике. Ожидаемое снижение экспортных доходов и восстановление импорта будут создавать давление в сторону ослабления рубля. ЦБ может временно замедлить это ослабление продажей валютных резервов. В то же время необходимость инфляционного финансирования бюджетного дефицита также будет создавать давление в сторону ослабления рубля, и первая половина 2023 года будет отражать противостояние этих факторов.
Макроэкономическая ситуация в 2023 году будет принципиально отличаться от 2022 года. 2022 год был годом импортных санкций, разрушения или подстройки существовавших цепочек поставок и построения альтернативных цепочек в условиях избыточного финансирования и притока валютных доходов. 2023 год, наоборот, станет годом относительно адаптировавшихся цепочек поставок, но одновременно и годом снижения экспортных доходов и притока валютного финансирования в условиях постоянного бюджетного дефицита. В этом смысле 2023 год будет гораздо больше, чем 2022-й, похож на типичный международный кризисный эпизод (то, что мы называем «sudden stop») со снижением притока капитала, девальвационным давлением и нарастающими проблемами с финансированием всей экономики — и банковской, и производственной ее части.
Факторы «смягчения» в 2022 году и кризисные факторы в 2023-м
Четыре основных фактора смягчения кризиса
Основным фактором, поддержавшим в прошедшем году российскую экономику в условиях санкционного режима, безусловно, стали рекордно высокие доходы бюджета от экспорта энергоресурсов. Люди забыли, что цены на нефть могут оставаться высокими, а мир не может отказаться от российских ресурсов в один момент, поэтому объемы экспорта оставались достаточно большими, а нефтетрейдеры, которые в апреле приостановили покупки российской нефти, уже в мае вернулись к торговым сделкам.
По этой же причине все финансовые институты страны не могли быть одномоментно изолированы от мировой системы передачи финансовой информации. Таким образом ресурсы действительно продолжали продаваться в объемах, сопоставимых по физическим показателям с объемами 2021 года, а цены при этом оказались на 50% выше. В результате, выручка от экспорта нефти и газа в 2022 году, по оценке Минэкономразвития РФ, составит $337 млрд против 245 млрд в 2021-м.
Второй фактор — Китай, Индия, Турция, ОАЭ и ряд других «дружественных» стран, на которые приходится чуть ли не половина мировой экономики, к санкциям не присоединились и не только продолжали осторожное внешнеэкономическое сотрудничество с Россией с оглядкой на риск вторичных санкций, но даже расширили выгодные им торговые отношения, связанные с российским сырьем и замещением выпавшего импорта в Россию. В результате увеличения закупок российской нефти со стороны этих стран удалось перенаправить на восточное направление три четверти экспорта нефти, ранее отправлявшейся в Европу.
Третьим важнейшим поддерживающим фактором стали большие, накопленные ранее складские товарные запасы российских производственных и торговых компаний, а также накопленные финансовые ресурсы корпоративного сектора, которые позволили смягчить шоковый весенний период. Только к третьему кварталу мы увидели, как начали снижаться запасы прибыли в коммерческом секторе. Сальдированный финансовый результат корпоративного сектора сократился в третьем квартале более чем вдвое (–56%) к третьему кварталу прошлого года, при этом в сентябре он и вовсе ушел в отрицательную зону, то есть продемонстрировал убыток.
В качестве четвертого фактора смягчения санкционного удара следует назвать резкий рост бюджетных расходов, который можно рассматривать как бюджетный стимул, связанный с увеличением расходов на «спецоперацию». Бюджетные расходы выросли по итогам года на 26%. Для их наращивания использовались накопленные ранее резервы Федерального казначейства, отказ от бюджетного правила, позволивший полностью мобилизовать поток поступлений от экспорта нефти, плюс привлечение 1 трлн рублей из ФНБ осенью, а также изъятие более 1,5 трлн рублей из прибыли «Газпрома» и экстренные заимствования порядка 2 трлн рублей на рынке ОФЗ, профондированные, по всей видимости, Банком России операциями РЕПО с банками. Таким образом, всего дополнительное финансирование составило порядка 5,5 трлн рублей.
Переориентация торговых потоков и ее ограничения
Важным фактором относительной стабилизации российской экономики стало восстановление импорта. Российские предприниматели сумели быстро создать альтернативные логистические цепочки для ввоза товаров в Россию, научились ввозить довольно большую линейку товаров по серым схемам. Импорт стал быстро восстанавливаться, в том числе за счет роста на 20–30% потока импорта из «дружественных стран», которые стали центрами логистики и транзита. Общее направление стратегии адаптации — переориентация экономических связей с развитыми странами на «дружественные» страны с целью продвижения импорта неподсанкционных товаров по транзитным логистическим схемам, а также поддержки экспорта.
Цифры говорят сами за себя: сокращение импорта в Россию в номинальном выражении за январь–ноябрь 2022 года по сравнению с таким же периодом прошлого составило –14%. То есть уровень восстановления номинального импорта достаточно высокий. Правда в физическом выражении уровень восстановления существенно ниже, так как выросли цены в долларовом выражении. Низкий уровень восстановления характерен для машин и оборудования, где действует наиболее тяжелое бремя санкций и логистических сложностей. Официальных оценок нет, но, по данным, опубликованным в газете «Коммерсантъ», инвестиционный импорт в страну за первую половину 2022 года сократился на 44%, при этом импорт из стран ЕС упал в 3–5 раз (в конце года темпы сокращения были ниже — около минус 25% к уровню предыдущего года).
Сильным адаптационным фактором здесь были макроэкономическая стабильность и более сильный рубль. Причина в правильной тактике Центробанка, который не стал слишком препятствовать укреплению рубля после его сильнейшего падения сразу после введения санкций. Сильный рубль послужил мощным фактором снижения цен после их резкого скачка в марте. Эту политику ЦБ удавалось проводить несмотря на смягчения ограничений по вывозу капитала, в результате чего отток капитала в 2022 году составил рекордные $250 млрд.
Опубликованные ЦБ оценки основных показателей платежного баланса показывают, что внешнеторговый профицит продолжает сокращаться, отражая восстановление импорта на фоне устойчивого ухудшения ситуации с экспортом. Пока что цифры профицита остаются высокими. Более того, даже при текущей цене Urals ($50 за баррель) в России сохранится и небольшой торговый профицит, и профицит счета текущих операций. При снижении цены нефти до $35–40 и сокращении объемов добычи/экспорта на 1–1,5 млн баррелей в сутки профицит может быстро сократиться до нуля с соответствующими последствиями для рубля. Таким образом, эффект тактического хода ЦБ по стабилизации финансового положения страны к началу 2023 года исчерпан.
Разного рода финансовые ограничения — от отключений ряда российских финансовых организаций от системы SWIFT и блокирующих санкций до добровольного решения американских и европейских банков-корреспондентов полностью отказаться от транзакций по корсчетам российских банков или лимитировать их количество — не помешали России обеспечить в текущем году внешнеторговый оборот по номинальному объему не меньший, чем в прошлом. Возможности осуществления денежных переводов в валютах международной торговли — долларах и евро — сузились, но остались. У этого есть простая причина: до тех пор, пока у обеих сторон есть необходимость поддерживать торговые потоки между компаниями из России и ЕС, а «дружественные» страны во внешнеэкономической деятельности предпочитают использовать доллар или евро, каналы расчетов между финансовыми институтами в России и за рубежом в этих валютах будут сохраняться.
Одновременно происходит развитие замещающих механизмов и способов обслуживания транзакций для клиентов российской банковской системы. Рост торгового оборота и инвестиционного сотрудничества с «дружественными» странами способствует созданию автономных систем взаимных расчетов без использования систем, основанных на долларах или евро. При этом ценообразование построено на референсе к долларовым ценам, то есть расчеты осуществляются на основе долларовой цены по текущему курсу. Перспективным каналом считается создание систем взаиморасчетов в криптовалютах.
До недавнего времени российская энергетическая отрасль успешно адаптировалась к новым обстоятельствам — исключением был только добровольный отказ от экспорта газа. Однако европейское эмбарго на закупку российской нефти, потолок цен на российскую нефть и подобные решения для нефтепродуктов, вступившие в силу с 5 февраля 2023 года, по-видимому, нанесут ощутимый удар по нефтяной отрасли. В не менее сложном положении уже оказались отрасли, использующие достаточно современные технологии и комплектующие, в частности, отрасли, связанные с военной промышленностью и, в целом, с машиностроением и обрабатывающей промышленностью. Виды экономической деятельности, которые полностью полагались на зарубежную технику, софт и ноу-хау, теперь смогут выживать в основном за счет серых схем ввоза комплектующих или за счет промышленного шпионажа. Наиболее эффективно адаптируются отрасли внутренней торговли и услуг, финансовый сектор.
Ограничения этой стратегии лежат на стороне партнеров и определяются их готовностью взаимодействовать с Россией с учетом риска вторичных санкций.
Кризисные факторы 2023 года
К основным факторам макроэкономического риска в 2023 году относится истощение немонетарных источников обеспечения макроэкономической стабильности. Расходы в бюджете на 2023 год по объему примерно соответствуют уровню 2022 года и составляют 29 056 млрд рублей — в предположении, что ВВП незначительно снизится, цена Urals составит $70 за баррель, а курс рубля к доллару — 72,2. Насколько реалистичны эти планы?
Что касается рубля, то в аккурат к началу года этот курс обеспечен, и вряд ли чисто рыночными силами. А вот ценой нефти управлять не получится: цена Urals, по которой реализовывалась на экспорт нефть в декабре, составила $50,7 за баррель.
По данным Минфина, в ноябре нефтегазовые доходы федерального бюджета снизились на 2,1% год к году против роста на 15,7% год к году в октябре. Однако, напомним, что в октябре–декабре в бюджет перечисляется прошлогодняя прибыль «Газпрома» (дивиденды, изъятые у акционеров компании, поступают в бюджет в виде разового НДПИ). Без этой разовой выплаты (415 млрд в месяц) падение нефтегазовых доходов в ноябре составило бы оглушительные 48,9% год к году. При наблюдаемой динамике нефтегазовых доходов в последние месяцы 2022 года выход в 2023 году на плановый уровень нефтегазовых доходов в 8,9 трлн. видится все более проблематичным.
Сокращение ВВП тоже может оказаться более существенным, чем запланировано. При этом бюджетный стимул, задействованный в текущем году и ограничивший спад в году следующем, будет трудно обеспечить без инфляционных последствий. Другими словами, уровень ВВП и не нефтегазовые доходы тоже могут оказаться ниже плана. А попытки мобилизовать внутренние заимствования сверх запланированных 3 трлн рублей в ситуации, когда вклады физических лиц сокращаются (в 2022 году вклады снизились до 33,1 трлн рублей после 34,6 трлн рублей в 2021-м), потребуют слишком активного задействования пирамиды рефинансирования ОФЗ в операциях РЕПО с Банком России.
Все это указывает на то, что для выполнения планов по финансированию бюджетных расходов придется привлечь из ФНБ не 3 трлн рублей, а 6 трлн, что в нынешних обстоятельствах тоже можно отнести к монетарному финансированию дефицита бюджета. Монетарный характер такого привлечения создаст риск разворота инфляционного тренда к росту, а ЦБ придется повышать ставку рефинансирования. Исполнение такого бюджета — путь к постепенному разрушению финансовой стабильности и дальнейшему снижению реальных доходов населения страны. В декабре правительство наметило ряд экстренных мер по пополнению доходов, которые, впрочем, исчисляются лишь сотнями миллиардов рублей — против триллионных сокращений нефтегазовых доходов в наступившем году.
Помимо этого, существует ряд структурных и конъюнктурных рисков, связанных с продолжающейся «специальной военной операцией» и санкционными режимами. Так, достаточно значимым фактором выглядит дефицит квалифицированных трудовых ресурсов, который уже в текущем году внес лепту в сдерживание экономической динамики. Дополнительные мобилизационные решения усугубят ситуацию, неважно будет это связано с непосредственным отвлечением мужчин трудового возраста в армию или с увеличением их эмиграции. Закрытие границ экономике занятости никак не поможет. Кроме того, если импорт современного оборудования и трансферт технологий останутся недоступными из-за технологических санкций, то в динамике производительности труда начнет проявлять себя нарастающая технологическая отсталость промышленности. Наконец, существует вероятность ослабления эффекта ставки на поддержку «дружественных» стран как по политическим причинам, так и в результате усиления санкционного давления по линии возрастающей угрозы вторичных санкций.
Реализация перечисленных рисков, ведущих к ухудшению экономического положения страны, и падение реальных доходов населения могут вызвать ответную реакцию властей — попытки дальнейшего повышения налогов и усиления государственного влияния на коммерческий сектор, что, в результате, усугубит падение эффективности производства.
Наконец, перечисленные выше риски могут наложиться на глобальную рецессию или ослабление экономического роста ведущих мировых экономик, первым плодом чего окажется падение мирового спроса на энергетические ресурсы.
Реализация этого сценария потребует полного пересмотра бюджета страны в рамках трилеммы: сократить против планов финансирование военно-силового сектора, пойти на болезненное сокращение расходов на социальные программы, науку, образование, здравоохранение или запустить монетарное финансирование разбухающего дефицита бюджета. Если ввиду инерционности инфляционных процессов и наличия определенного запаса финансовых ресурсов в государственном и корпоративном секторе шансы пройти 2023 год без разрушения финансовой стабильности остаются, то в последующие годы без существенного урезания государственных расходов финансовая стабильность будет разрушена.
Замещение в выпуске, отток инвестиций и фактор неопределенности
Замещение импорта и показатели выпуска: скрытые эффекты
Причины, по которым российская экономика упала значительно меньше, чем ожидалось, хорошо иллюстрируются анализом последствий сокращения импорта. Экономисты были уверены, что ограничения на импорт, введенные западными странами, в сочетании с решением многих компаний прекратить поставки в Россию вызовут глубокий спад производства (МВФ и Всемирный банк предсказывали сокращение российского ВВП в 2022 году в диапазоне от 8,5 до 11%). Такой прогноз основывался не только на экономической логике, но и на опыте событий начала 1990-х годов: после распада СССР и ослабления экономических связей с восточно-европейскими странами произошел разрыв многих производственных цепочек, что стало одной из основных причин кризисного спада экономики. Почему же в прошедшем году последствия оказались далеко не такими тяжелыми?
Для промежуточной продукции есть очевидный смягчающий механизм: существенная часть не полученного импорта была заменена сырьем и комплектующими из производственных запасов. Особенно наглядно данный механизм проявил себя во втором квартале 2022 года, когда прирост запасов материальных оборотных средств оказался на 1,1 трлн рублей меньше, чем годом ранее. Это свидетельствует о том, что увеличение запасов по отдельным направлениям (особенно, по всей вероятности, в части оборотных средств военного назначения; согласно методологии Росстата [Система национальных счетов, 2008, пункт 10.144] данная статья «состоит из объектов одноразового использования, таких как боеприпасы, снаряды, ракеты, бомбы и т. д.»), сопровождалось масштабным сокращением запасов гражданской промежуточной продукции. Ясно, что такой механизм может действовать лишь ограниченное время, смягчая эффект санкций на начальной стадии.
Второй механизм, частично компенсирующий блокировку импорта, носит среднесрочный характер, но оказывает разнонаправленное действие. Исчезновение с рынка многих импортных потребительских и инвестиционных товаров частично переключило спрос на российскую продукцию, стимулируя рост внутреннего производства. Вместе с тем, если, потеряв возможность купить мебель в IKEA, люди приобретают аналогичную российскую мебель, это является неравнозначной заменой, поскольку означает вынужденный выбор «суррогатного» варианта вместо наиболее предпочтительного.
Таким образом, при прочих равных искусственное (связанное с нерыночными факторами) импортозамещение увеличивает объем производства, но снижает благосостояние граждан (которое описывается системой их предпочтений). В этом отношении ситуация аналогична последствиям введения российских контрсанкций в 2014 году в ответ на секторальные санкции ряда западных стран, когда был ограничен ввоз в страну некоторых видов мясо-молочной продукции, овощей и фруктов. Как показали Наталья Волчкова и Полина Кузнецова, это помогло отечественным производителям нарастить выпуск соответствующей продукции, но снизило благосостояние российских потребителей: их расчетные потери были оценены авторами в 3 тыс. рублей на человека в год.
На этом примере мы видим, что в нынешней ситуации показатель ВВП, в основном описывающий динамику производства, необходимо дополнить показателями, отражающими благосостояние граждан (причем более тонкими, чем просто стоимость потребляемых товаров и услуг). В 2022 году, по всей вероятности, оказалось бы, что эти показатели снижаются заметно сильнее, чем ВВП. Заметим также, что здесь мы наблюдаем те же эффекты, о которых пишет Олег Ицхоки: замена рыночных механизмов нерыночными имеет неожиданные последствия, в том числе может на время смягчать действие санкций.
Наконец, еще один механизм, смягчающий удар санкций, — увеличение выпуска продукции ВПК. Точных данных об этом нет, но трудно представить, чтобы активные военные действия не сопровождались резким ростом производства военной техники и вооружений. Напомним, что в августе и декабре 2022 года правительство выпустило специальные постановления, позволяющие увеличить использование рабочей силы на оборонно-промышленных предприятиях (разрешено привлекать работников без их согласия к сверхурочной работе, работе в выходные и праздничные дни, переносить отпуск работников или отзывать их из отпуска, выделены средства на привлечение на предприятия ОПК работников из других регионов и т.д.).
Факторы давления в 2023 году: исчерпание запасов, отток капитала и вытеснение инвестиций
Какие факторы в ближайшее время будут работать в минус, толкая экономику вниз? Первый и очевидный: исчерпание возможности замещать промежуточный импорт за счет запасов. Теперь этот фактор начнет, я думаю, реально действовать. Для компенсации выпавших импортных поставок потребуются дополнительные производственные мощности. Будут ли они обеспечены соответствующим финансированием?
Показатели оттока капитала в 2022 году дают серьезные поводы усомниться в этом. За последний год ЦБ публиковал только агрегированные данные платежного баланса, поэтому мы можем сделать лишь грубые оценки, однако беспрецедентный рост оттока капитала из России из них вполне очевиден. Предварительные расчеты показывают, что чистый отток частного капитала увеличился по сравнению с 2021 годом на $200 млрд, достигнув примерно $275 млрд. Это более 12% ВВП (по сравнению с 4% ВВП годом ранее). Масштаб оттока капитала 2022 года превышает суммарный отток за шесть предыдущих лет (2016–2021).
Прирост произошел за счет обеих составляющих: прежде всего, за счет массового оттока иностранного капитала, но также и за счет увеличения вывоза российского капитала. Центральный банк ожидает быстрого сокращения оттока капитала. Однако правдоподобно выглядит лишь вторая часть этой гипотезы (сокращение), предположение же о скорости этого процесса представляется неоправданно оптимистическим. Если ситуацию с оттоком капитала не удастся коренным образом переломить, то надеяться на достаточный уровень инвестиций будет трудно.
Дополнительным ограничением источников финансирования в реальном секторе станет то, что называется «вытеснение инвестиций» (crowding out), то есть замещение их государственными заимствованиями. Здесь также накладываются друг на друга несколько процессов: с одной стороны, увеличение долгового финансирования бюджетного дефицита, с другой — выход зарубежных инвесторов как из валютных, так и из рублевых государственных облигаций. Это означает, что приходится не только обеспечивать дополнительные чистые заимствования, но еще и замещать уходящий с рынка госдолга иностранный капитал дополнительными внутренними заимствованиями.
Что касается бюджетных рисков, то, если не произойдет «аварийного торможения» мировой экономики (которое неизбежно повлечет за собой падение спроса и цен на нефть), я предполагаю, что формальные риски неисполнения бюджета невелики. Скорее всего, план по доходам в 2023 году будет исполнен, хотя, вероятно, при несколько более высоких инфляции и курсе доллара, чем планировалось. Это поможет выполнить план по доходам. Не вызывает сомнений и возможность профинансировать дефицит бюджета (в 2023 году предусмотренный чистый объем внутренних заимствований ненамного больше уровня 2022-го). Таким образом, формально все расходы будут обеспечены — но только в номинальном выражении. В реальном они, вполне вероятно, окажутся меньше, чем были запланированы, из-за более высокой инфляции.
Неопределенность и советизация экономики
Еще один важный фактор, который редко учитывается при обсуждении экономических прогнозов в нашей стране, хотя в мире ему в последнее время стали придавать очень большое значение, — это неопределенность. Так, по имеющимся оценкам, в период «Великой рецессии», то есть международного финансового кризиса 2008–2009 годов, примерно треть потерь ВВП США определялась фактором неопределенности.
Международный опыт убедительно показывает, что при повышенной неопределенности бизнес откладывает решения об инвестициях до прояснения ситуации, одновременно на всякий случай замораживает действия по выходу на новые рынки, прием работников и т.п. Со своей стороны банки повышают кредитные ставки, включая в них дополнительные риски, а граждане пытаются застраховаться от неожиданностей, накапливая дополнительные сбережения за счет сокращения потребительских расходов. Наконец, неопределенность резко снижает эффективность инструментов экономической политики, в силу чего правительству и Центральному банку приходится принимать все более сильные меры (например, для сдерживания инфляции требуется все большее повышение процентных ставок).
Пожалуй, в 2022 году как общая неопределенность, так и неопределенность экономической политики оказались самыми высокими со времен дефолта 1998 года. Это проявилось в рекордном размахе колебаний курса доллара (в диапазоне от 120 до 50 рублей) и в неоднократном пересмотре оценок годового спада ВВП (от 11 до 2,5%). Велика и неопределенность экономической политики. Вряд ли кто-то может сейчас сказать, будут ли в ближайшие несколько лет повышаться налоги, какие новые санкции будут вводиться, произойдет ли сворачивание или, наоборот, расширение сферы действия нерыночных мер. И это лишь небольшая часть вопросов без ответов. Все это будет ограничивать и потребительский спрос, и особенно инвестиции в основной капитал, и, в результате, служить одним из главных препятствий для восстановления экономики.
Представляется вполне вероятным, что эта неопределенность будет подавляться путем различных ограничений степеней свободы экономических агентов (введения элементов планирования, усиления государственного регулирования и т.п.). Платой за такое ограничение станет подавление стимулов экономической активности, снижение ее гибкости и эффективности, способности адаптироваться к негативным шокам. То есть будет возвращаться все то, от чего мы уходили с 1992 года и за счет чего экономика успешно развивалась в 2000-. Печально, что итог проделанного за последние тридцать лет пути на наших глазах будет «обнуляться».
Основная тенденция сейчас, на мой взгляд, состоит не в движении навстречу кризису, а в постепенной «советизации» экономики. Этот общий тренд имеет множество проявлений в разных сферах. Здесь и быстрое возведение усилиями обеих сторон крепких стен, отгораживающих российскую экономику от мировой, и повышение формальной и неформальной роли государственного сектора, и увеличение бюджетных расходов на оборону и безопасность и расширение военного производства. По многим направлениям мы уже сильно сдвинулись назад, в сторону Советского Союза, и это движение устойчиво продолжается.
Российская экономическая аномалия: адаптивность, рынок и административный торг
Почему в 2022 году в России не сработали стандартные теоретические модели, исходя из которых проектировались масштабные международные санкции и делались предположения о том, что российская экономика столкнется с глубоким кризисом? Для корректного ответа на этот вопрос, на мой взгляд, важно понимание нескольких существенных аспектов.
Кризисные навыки: модель выживания
Во-первых, за те тридцать лет, которые прошли с реформ 1990-х годов, российская экономика стала рыночной. И расширение присутствия государства в экономике, начавшееся в разных формах с середины 2000-х годов, не изменило принципиально ее рыночного характера. Подавляющее большинство предприятий (включая компании с госучастием) работают на рынке и руководствуются рыночными стимулами. Поэтому в условиях шока 2022 года они всеми силами пытались сохранить свои позиции, найти других поставщиков, занять новые ниши (или даже щели) на внутреннем и на глобальном рынках. И именно усилиями бизнеса экономика на этом изломе смогла удержаться от глубокого падения.
Во-вторых, уже четырнадцать лет российский бизнес существуют в условиях более-менее перманентного стресса. Сначала глобальный кризис 2008–2009 годов, затем кризис 2014–2015 годов и первая волна международных санкций, после этого экономический шок, спровоцированный пандемией и сбоями в цепочках поставок. И это не считая локальных отраслевых кризисов, когда государство замораживало торговлю с Турцией (после инцидента с российским истребителем, сбитым турецкими ВВС), или внезапно вводило ограничения на экспорт зерна, или устанавливало новые требования к хранению данных.
Те компании, которые смогли выжить в условиях этого перманентного стресса, привыкли к тому, что в России надо быть готовым к любым неожиданностям в логике «черных лебедей» Нассима Талеба. А это значит, что жизнь приучила их всегда иметь дополнительные резервы: и финансовые, и материальные — в виде сверхнормативных запасов. С точки зрения стандартной теории глобальных цепочек создания стоимости такие запасы могут восприниматься как неэффективные. Но в российских реалиях для бизнеса более надежным оказывается принцип «запас карман не тянет».
Здесь можно провести такую аналогию. В нормальных условиях все время ходить и тем более спать в каске не удобно. Но если ваш опыт показывает, что в любой момент вам на голову может упасть кирпич, то лучше ходить и спать в каске. В итоге, в 2022 году на голову российским компаниям прилетел очередной «кирпич». Однако благодаря выработавшейся привычке к неожиданностям большинство из них смогло отделаться лишь вмятинами на каске.
Вместе с тем важно сознавать, что постоянное «хождение в каске» связано с заметными дополнительными издержками. Поэтому не надо удивляться, что средние темпы роста российской экономики с 2012 по 2021 год составили немногим более 1% в год, что заметно ниже, чем в ЕС или США. То есть такая модель объективно оказывается ориентирована на выживание, а не на развитие.
В-третьих, перманентный стресс последних лет привел к относительной расчистке российской экономики от совсем неэффективных предприятий. Наиболее явно этот процесс происходил во время кризиса 2014–2015 годов, когда правительство в минимальной степени предоставляло поддержку бизнесу и многие компании были вынуждены уйти с рынка. Это в конечном итоге вело к общему повышению устойчивости экономики.
Проявлением этих сдвигов стало изменение отношений с работниками. Владимир Гимпельсон и его коллеги неоднократно подчеркивали особенности российского рынка труда, связанные с тем, что адаптация фирм к кризисам у нас происходит путем снижения зарплат, а не за счет сокращения занятости (как это происходит в нормальной рыночной экономике). При этом постоянные жалобы руководителей предприятий на дефицит квалифицированных рабочих и инженеров, по их мнению, объясняются не столько реальной нехваткой кадров, сколько неспособностью предприятий платить конкурентоспособную зарплату. У этих аргументов есть основания, но наши интервью, проведенные в рамках совместного исследовательского проекта с РСПП в период пандемии и затем весной 2022 года, показывают, что предприятия все чаще рассматривают квалифицированных работников как ценный ресурс и стараются находить гибкие схемы для удержания специалистов в моменты кризисов. Такой подход способствует повышению устойчивости фирм.
Кризисная адаптивность в условиях сверхцентрализации
Наконец, в-четвертых, существенную роль играет способность экономического блока правительства эффективно реализовать антикризисные меры и поддерживать диалог с бизнесом. С 2008 года в этом плане наблюдается безусловный прогресс — из каждого очередного кризиса экономические ведомства и Центробанк извлекали уроки, и их реакция на следующий кризис становилась более адекватной. Наиболее показателен здесь опыт пандемии, когда российское правительство впервые задействовало широкий спектр мер господдержки для малых и средних предприятий (включая льготные кредиты и субсидии на поддержание занятости). Причем, по оценкам самих предпринимателей, эта поддержка в целом распределялась по понятным критериям и была доступна для обычных фирм, не имевших «политических связей». Весной 2022 года, наряду с экстраординарными мерами ЦБ по стабилизации валютного рынка, правительство вновь очень быстро стало использовать те механизмы господдержки, которые уже были отработаны и показали свою эффективность в 2020 году.
В этом ряду надо также отметить еще один важный момент — способность правительства к гибкости в кризисных ситуациях в рамках сложившейся системы управления, которая в целом при этом является сверхцентрализованной.
Впервые в яркой форме это проявилось в марте 2020 года, когда одновременно и ответственность, и многие полномочия были отданы на уровень регионов губернаторам, которые адаптировали централизованные меры (включая в том числе карантинные ограничения) к местной ситуации. При этом возникали эксцессы (например, в Краснодарском крае по началу запрещали въезд и выезд грузовиков), но они довольно быстро были устранены в результате давления бизнеса, который через обращения в РСПП, «Деловую Россию», федеральные ведомства добивался снятия избыточных ограничений. Минпромторг оперативно реагировал на такие обращения.
Интервью с руководителями предприятий и контакты с экспертами в регионах показывают, что в 2022 году во многом произошло повторение этой ситуации. Система госуправления мобилизовалась, и было запущено достаточно много вполне разумных антикризисных мер. Причем это делалось в диалоге с бизнесом — на уровне отраслей и на уровне регионов, в ходе которого бизнес реагировал на неэффективные решения, и многое оперативно исправлялось.
Специфический пример такого рода — горизонтальное взаимодействие предприятий и региональных властей после объявления мобилизации. В течение первых 7–10 дней мобилизация вызывала в бизнес-среде реальную панику. Военкоматам требовалось выполнить план по набору, и им было совершенно все равно, кого брать — они просто хватали людей. Это создавало проблемы для предприятий, которые могли потерять ключевых специалистов. И в результате, еще до решений о создании координационных советов на федеральном и региональном уровнях (они были приняты в конце октября) между бизнесом и региональными властями стали возникать неформальные договоренности о том, что предприятия помогают властям выполнить спущенные из Москвы квоты по призыву в обмен на то, что власти не трогают ключевых для этих предприятий специалистов.
Это практики даже не ХХ, а скорее XVIII века, когда конкретная деревня должна была выставить соответствующее количество рекрутов. В таких соглашениях есть что-то общее с крепостным правом на работников. Тем не менее, как мне поясняли коллеги в регионах, подобные неформальные взаимодействия привели к тому, что по крайней мере для крупного и среднего бизнеса (у которого было больше возможностей для переговоров с властями) издержки мобилизации были быстро сведены к минимуму.
Но это не просто еще один пример рыночного поведения предприятий, стремящихся оптимизировать свои издержки (пусть и в нетрадиционных формах). Региональные власти в данном случае тоже действовали как рациональные экономические агенты, так как остановка предприятий из-за призыва ключевых специалистов означала бы для них потерю налогов и социальные проблемы. Поэтому и бизнес, и власти оказывались заинтересованы в том, чтобы найти варианты решения проблем, упавших на них сверху. Конечно, это происходит не от хорошей жизни. У компаний и у региональных властей были свои планы, но Кремль и силовой блок правительства уже не в первый раз своими действиями загоняют их (а также ЦБ с Минфином, Минпромторгом и Минэкономразвития) в экстремальную ситуацию, выбираться из которой легче в кооперации друг с другом.
Стабилизация и дестабилизация ожиданий
Помимо этого, в отношениях властей и бизнеса есть еще один фактор: он связан с ожиданиями.
Начало войны стало шоком, который породил панические настроения (что хорошо было видно по ситуации на валютном рынке). Однако то, что затем сделал ЦБ для стабилизации финансовых рынков, было важно не только для самой банковской системы, но и для стабилизации ожиданий и населения, и бизнеса, особенно малого и среднего. После этого были запущены меры господдержки, началось повышение пенсий, стали налаживаться поставки товаров через параллельный импорт. И у людей стало возникать ощущение: «Да, война — это очень плохо, но она где-то далеко. И вообще это не война, а спецоперация, которая нас не касается. И можно продолжать жить, как раньше».
Безусловно, это было возможно потому, что и у государства, и у бизнеса все было хорошо с деньгами. Уже много было сказано о сверхдоходах федерального и региональных бюджетов — не только за счет поступлений от НДПИ и экспортных пошлин, но и за счет налога на прибыль. Эти сверхприбыли стали возможны потому, что цены в тот период реально выросли, а издержки бизнеса (прежде всего по зарплатам) особо не изменились.
Такая ситуация создавала ощущение, что можно жить, как раньше. Это было заметно, в частности, по результатам опросов ЦБ, которые замеряют конъюнктурные настроения и по которым летом было хорошо видно восстановление текущих оценок и ожиданий.
Однако опросы ЦБ охватывают прежде всего малый и средний бизнес. Наши интервью с такими предприятиями показывали, что они исходили из того, что санкции в отношении российской экономики уже вводились в 2014 году, но экономические агенты постепенно научились их обходить, и то же самое произойдет на этот раз. В частности, потому что они создают проблемы и неудобства и западному бизнесу. При этом на фоне роста ставки ЦБ был расчет на программу льготного кредитования (которую действительно оперативно запустили).
В то же время с российского рынка стали уходить иностранцы — все стали ждать сжатия спроса, но в то же время стало ясно, что на рынке освобождаются ниши и за них можно побороться. У отдельных предпринимателей были даже ожидания, что им дадут поучаствовать в восстановлении «освобожденных территорий».
До сентября эти настроения в совокупности были сильным психологическим фактором, который в том числе влиял и на потребление, и на инвестиции (которые были нужны для адаптации к новым условиям и для занятия освобождающихся ниш на рынке). Но сентябрьская мобилизация, объявленная после того, как власти многократно обещали, что ее не будет, обозначила определенный перелом. После 21 сентября и на уровне бизнеса, и на уровне гражданских чиновников в регионах все осознали, что теперь это их война. Причем с совершенно непонятными перспективами ее окончания. И с точки зрения ожиданий, на мой взгляд, это будет очень сильным негативным фактором, влияние которого мы увидим в ближайшие месяцы — вместе с сокращением доходов бюджета, принудительным изъятием прибыли у крупных компаний, нарастанием проблем с поставками импортных комплектующих и сжатием спроса.
Возвращаясь к исходному вопросу про стандартные теоретические модели и основанные на них неоправдавшиеся ожидания глубокого провала российской экономики под влиянием санкций в 2022 году, можно сказать, что Россия уже не в первый раз (здесь можно вспомнить «бартерную экономику» 1990-х) не вписывается в сложившихся экономические стереотипы. Поэтому при анализе российских реалий необходимо в гораздо большей степени учитывать поведенческие факторы и выработавшиеся защитные реакции экономических агентов на постоянные шоки. Однако на длинном горизонте все это не отменяет вытекающих из теории выводов о том, что после 24 февраля 2022 года у российской экономики нет никаких перспектив. И в 2023 году осознание этого тупика, скорее всего, станет повсеместным.
.jpg)