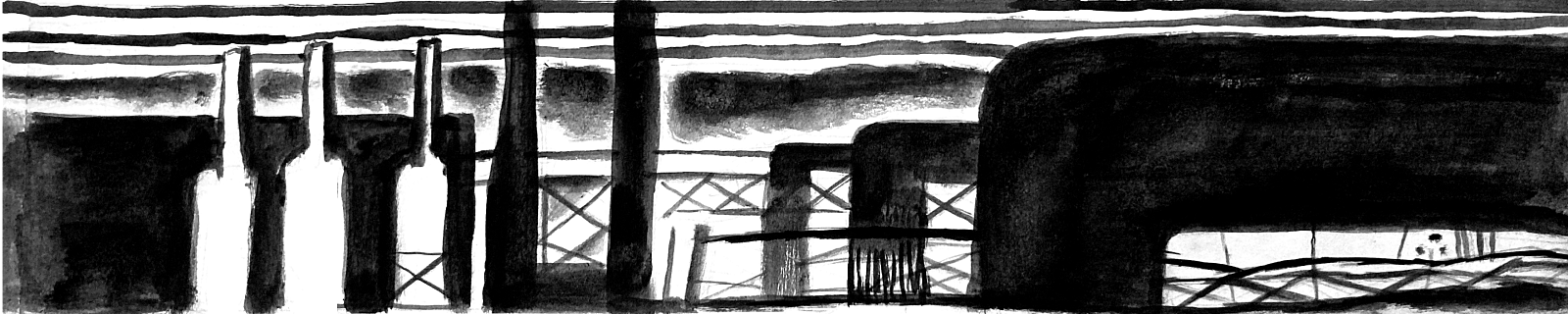
Кризис вместо сделки: промежуточные итоги энергетической войны
Наши весенние предположения относительно того, как может разворачиваться энергетическое противостояние между Россией и Европой, стали реальностью — энергетическая война в разгаре. И пора подвести ее промежуточные итоги: с чем подошли стороны к зимнему сезону? Пока можно сделать четыре основных вывода.
1. Европа переживет зиму, а кризис укрепляет европейское единство
Россия продолжает торговать нефтью и нефтепродуктами в почти довоенных объемах и по довоенным ценам, хотя и на 20% дешевле, чем другие продавцы. В декабре вступит в действие европейское эмбарго на покупку нефти и запрет на страхование морских перевозок, но уже сейчас обсуждаются исключения из этих мер в случае продажи по ценам ниже предельных. В сентябрьском коммюнике министров финансов G7 было отмечено, что значительное сокращение российского нефтяного экспорта приведет к росту цен и ухудшит положение в мировой экономике. Удастся ли воплотить контроль за ценами — отдельный вопрос, и ответа на него пока нет.
На прошедшей в октябре Российской энергетической неделе и Владимир Путин, и вице-премьер Новак, отвечающий за энергетику, несколько раз повторили, что Россия не будет продавать нефть по цене в пределах ценового потолка, а представители нефтяных компаний подтвердили, что готовят планы по работе в условиях возможного резкого сокращения добычи нефти.
Но более драматические события разворачиваются на газовом рынке. Россия последовательно снижала поставки газа в Европу, используя набор различных механизмов и предлогов. Часть этих действий имела характер некоторого правдоподобия, но все вместе они сложились в ясную картину, подтвержденную высказываниями Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, — это был ответ на европейские санкции и на поставки оружия Украине. Точка в интриге была поставлена 26 сентября — взрывами на трех из четырех ниток «Северных потоков», сделавшими скорое восстановление поставок по балтийскому маршруту невозможным не только по коммерческим и политическим, но и по физическим причинам.
Впрочем, и остающиеся объемы поставок уже под угрозой. Украинский «Нафтогаз» угрожает «Газпрому» арбитражным разбирательством за недоплату по контракту ship or pay, по которому «Газпром» бронировал мощности украинской газотранспортной системы, а «Газпром» намекает, что в этом случае у «Нафтогаза» есть большие шансы оказаться под санкциями российского правительства, что сделает их дальнейшее сотрудничество невозможным. На днях у зарегистрированной в Нидерландах компании South Stream Transport, являющейся оператором трубопровода TurkStream общей мощностью 32 млрд кубометров в год, была отозвана лицензия, что тоже если не делает невозможным, то крайне затрудняет дальнейшую работу этого маршрута. Таким образом, Россия угрожает дальнейшим сокращением своих энергетических поставок на мировые рынки.
Пока же перспективы на зиму 2022/23 года для Европы, может быть, выглядят несколько лучше, чем можно было предположить весной. Газовые хранилища практически заполнены — Европе удалось привлечь поставки СПГ практически со всего мира. Экономическая цена этих действий оказалась крайне высока, цены на газ временами 15-кратно превышали средний уровень до 2019 года, но значительного физического недостатка газа, видимо, удается избежать, хотя какие-то административные меры понадобятся — от прекращения поставок промышленным предприятиям до законодательных запретов топить слишком жарко. Все они уже внедряются — в Германии составляются списки очередности отключения предприятий, а в Швейцарии за температуру выше 19 градусов в квартире грозят уголовное преследование, штраф и тюремное заключение.
Когда заходит речь о зиме с недостатком топлива, на ум приходят апокалиптические картины из прошлого — описание Москвы 1918 года в «Докторе Живаго» или Ленинграда в «Блокадной книге», замерзшие города, полопавшиеся батареи и канализация. В этой системе координат грядущая зима и особенным кризисом считаться, наверное, не может, ничего и близко подобного в Европе не будет. Хоть и ценой административных мер, ограничения промышленных потребителей и очень значительных денежных расходов Европа, видимо, сможет пройти через зиму 2022/23 года без существенных потрясений.
Проблемы с газом и энергией будут распределены по Европе неравномерно: будут страны, которым придется идти на небольшое сокращение потребления, и страны, которым придется значительно менять свой образ жизни, будут страны с низкими собственными запасами, зависящие от транзита через другие страны, находящиеся в более благополучной, но тоже сложной ситуации. В этих обстоятельствах единство Европы будет проверяться на прочность. Наверняка в странах с заполненными хранилищами и транзитными трубопроводами будут раздаваться голоса, что прежде, чем пропускать газ соседям, необходимо обеспечить себя, что нет необходимости ограничивать себя в потреблении, если именно в этой стране газа хватает. А политики этих стран будут стоять перед дилеммой, исполнять ли им желания своих избирателей или действовать в долгосрочных интересах европейского единства. Будут и страны, которые ждет показательное снабжение российским газом по низкой цене, с намеком всем остальным, что все проблемы можно решить, если согласиться на сепаратное восстановление хороших отношений с Россией.
Евросоюз прошел проверку на прочность в 2008–2009 годах. Эпидемия COVID создала еще одну кризисную ситуацию, в которой надежность Евросоюза подвергалась испытанию. Нынешний кризис — третья такая проверка. Несмотря на определенные трения, кризис, скорее, служит к укреплению ЕС, создавая дополнительные смыслы для его существования. Кризис обнажает проблемные зоны: в частности, стало ясно, что энергетическая политика и дизайн рынков энергии в Европе нуждаются в серьезной доработке, если не в коренном переустройстве. То есть такие испытания скорее подталкивают Европу к дальнейшей интеграции, чем к развалу, к усилению панъевропейских структур, призванных координировать политику и решать проблемы, и к преобразованию подразделений Еврокомиссии из сводно-аналитических в организации с исполнительным мандатом и соответствующими ресурсами.
2. Кризис не на один год
Впрочем, одним годом проблемы не ограничатся. Можно считать, что из 135 млрд кубометров трубопроводного российского газа, поставленного в прошлом году в Европу, в 2023 году будут экспортированы в лучшем случае 20 млрд — в Сербию, Венгрию и, может быть, в какие-то другие не слишком недружественные страны (хотя, как отмечалось, есть значительный риск, что остановится и украинский, и балканский транзит, а поставки в Турцию уменьшатся наполовину). Разница в 115 млрд кубометров будет чистым уменьшением мирового газового баланса, никуда больше эти объемы российского газа пойти не смогут. В то же время новых значительных источников газа на международном рынке не появится до 2024–2025 годов, когда запустятся строящиеся заводы СПГ в США. Таким образом, на ближайшие два-три года Европа и мир оказываются перед перспективой газового дефицита.
Перспективы на зиму 2023/24 года могут быть даже хуже. С большой вероятностью к весне 2023 года Европа подойдет с практически опустошенными газовыми хранилищами (обычно на выходе из зимы в них сохраняется 20–25% заполнения) и, в отличие от весны 2022 года, на северо-запад Европы российский газ не будет поступать даже в небольших количествах. Конечно, к тому моменту европейская экономика проживет с газовым дефицитом уже больше года, будет накоплен опыт адаптации, начнут сказываться инвестиции в энергосбережение и замещающие источники энергии, но это процесс не слишком быстрый.
В отрасли СПГ в последние несколько лет произошло значительное оживление и было начато несколько очень крупных проектов в США, Канаде, Катаре и несколько поменьше в Мозамбике, Конго и Индонезии (IGU World LNG report 2022). Но эти мощности будут запущены в основном после 2025 года, а 34 млн из примерно 110 млн т ожидаемого от их запуска годового прироста объемов СПГ приходится на два российских проекта, «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк» и «Балтийский СПГ» «Газпрома», реализация которых сейчас под большим вопросом.
Рост добычи газа без мощностей по его транспортировке к центрам спроса — Европе, Японии, другим азиатским странам — практически ничего не дает: обнаружение и быстрая разработка крупной газоносной провинции смогут изменить мировой газовый баланс лишь в тандеме со строительством заводов СПГ или экспортных трубопроводов, а реализация таких проектов занимает 7–10 лет.
Кроме того, часть нового газа пойдет на замещение спада добычи из вырабатываемых месторождений. Например, завод СПГ в Алжире мощностью 29 млн т теперь используется на 40%, а завод в Индонезии мощностью 26 млн т — на 50%. На спад пошло производство СПГ в Египте и Нигерии. А по прогнозам норвежского правительства, в ближайшие годы добыча газа в Норвегии будет оставаться практически на уровне нынешнего. Несомненно, сложившаяся ситуация даст стимул для запуска новых проектов и ускорения уже строящихся. С другой стороны, даже в нынешних обстоятельствах Международное энергетическое агентство прогнозирует рост спроса на 140 млрд кубометров газа до 2025 года (примерный эквивалент 100 млн т СПГ), в основном в странах Азии, зависящих от импорта.
После успехов в разработке сланцевого газа в США было много попыток развить этот бизнес в Европе, но к середине 2010-х годов они прекратились. Основные сланцевые бассейны в Европе — это северо-восток Франции, центральная Польша и Румыния. Но выяснилось, что геология здесь сложнее, чем в США. Кроме того, проводить работы, требующие до 30 тыс. т воды и до 10 тыс. т песка на скважину, которых необходимо бурить сотни, гораздо легче в малонаселенных районах Техаса и Дакоты, чем в Европе с ее узкими дорогами, проходящими через населенные пункты. Европейское земельное законодательство гораздо сложнее американского. Наконец, американская сланцевая революция использует обширную материальную базу нефтегазовой индустрии — большое число легкодоступных тяжелых буровых установок и флотов ГРП (оборудования для гидравлического разрыва пласта, основного метода интенсификации газовой добычи), которые в Европе практически отсутствуют. В итоге обнаружилось, что разрабатывать сланцевые ресурсы в Европе запретительно дорого и долго. При самых благоприятных обстоятельствах перезапуск этих проектов займет не менее нескольких лет.
Таким образом, как минимум до 2025 года мир ждет значительный дефицит газа. Проекты, которые запустятся после 2025 года, ослабят этот дефицит, но не создадут изобилия: они разрабатывались в расчете на увеличение спроса, а не на компенсацию выпадающих объемов российского газа. Проекты, срочно запускающиеся в 2022–2023 годах, окажут значительное влияние на рынок не раньше 2028–2030-го. Кроме того, несмотря на резкое изменение отношения к инвестициям в традиционную энергетику, у инвесторов остается большая настороженность в отношении долгосрочной окупаемости новых проектов в условиях предстоящего энергоперехода. Скорее всего, они будут требовать гарантий закупки газа, соглашений take or pay или иных гарантий, но это лишь будет означать перенос риска обладания «увязшим» активом (stranded asset) на кого-то другого, с большой вероятностью — на европейские правительства.
Сейчас внимание многих приковано к падению фондовых бирж, инфляции и росту коммунальных платежей. Но, помимо этого, в Европе разворачивается кризис платежеспособности энергетических компаний, сравнимый по тяжести с финансовым кризисом 2008 года. В большинстве европейских стран компании, поставляющие электричество и газ, обязаны выставлять клиентам фиксированный на год тариф. Но закупают они газ и электричество на открытом рынке с волатильными ценами. Глубина рынка производных финансовых инструментов, позволяющих хеджировать разрыв между фиксированной и плавающей ценой, недостаточна. В итоге у этих компаний, как правило, есть большая открытая позиция, а риск покрывается заложенным в цену для покупателей резервом. Это работает в нормальном режиме рынка, но не в ситуациях вроде той, что сложилась с февраля 2022 года (а в реальности — даже с лета 2021-го). Несколько европейских энергетических компаний сейчас стоят на пороге неплатежеспособности (Uniper в Германии, региональные поставщики коммунальных услуг по всей Европе), и государства вынуждены создавать резервные фонды в размере десятков миллиардов евро для их спасения.
Таким образом, кризис и напряжение энергетических рынков, связанные с выпадением российского газа, растянутся на несколько лет, а в наиболее острой форме проявят себя в ближайшие два года.
3. Европейскую и мировую экономики ждет серьезный кризис
Но газовый кризис — это не только европейский феномен. Через механизм торговли СПГ европейский газовый кризис стал мировым: цены на газ выросли во всех странах. Некоторым из них, таким как Пакистан и Бангладеш, газ стал не по карману, и теперь они сталкиваются с регулярными отключениями электроэнергии.
Сложившаяся ситуация напоминает нефтяной кризис 1973 года, когда арабские государства сократили добычу нефти и прекратили ее поставки пяти западным странам в ответ на их поддержку Израиля. Нефтяное эмбарго продлилось около четырех месяцев, сокращение поставок составило около 4% от объема мировой торговли, и это привело к четырехкратному росту цен и многолетнему экономическому кризису. Сейчас все параметры кризиса 1973 года уже превышены — и в отношении доли сокращения поставок газа, и в части роста цен.
В 1973 году нефтяное эмбарго застало мир врасплох, и с тех пор были приняты меры по энергосбережению и созданию стратегических запасов нефти. Когда началось обсуждение нефтегазового эмбарго для России, одним из аргументов в его пользу было утверждение, что сегодня мировая экономика куда больше готова к подобным шокам. И действительно, в первые месяцы ничего особенно страшного не произошло. Но каковы могут быть более долгосрочные последствия?
Сравним нынешнюю ситуацию с 1973 годом. Освоение Северного моря началось в конце 1960-х годов (известное месторождение Брент было открыто в 1971-м, к 1973-му для него уже строились платформы, в 1976-м оно дало первую нефть), советское освоение Западной Сибири тоже началось в 1960-х (первые месторождения открыты в 1960–1961 годах, Самотлор — в 1965-м). Тогда же начался перевод мазутных электростанций на газ. В 1970 году в мире работало 90 энергетических атомных реакторов, к 1980-му их было 253, а их общая мощность выросла с 16 ГВт до 135 ГВт.
Сейчас нефтегазовая отрасль переживает глубокий спад, инвестиции в нее с 2014 года упали вдвое, сначала в результате ценового шока, а затем — под давлением общественного мнения, считавшего, что энергопереход уже близок и что даже существующие мощности нефтегазодобычи — это «увязшие» инвестиции, которые будут отключены еще до исчерпания ресурсной базы. Развитие атомной энергетики практически прекратилось после чернобыльской аварии и аварии на «Фукусиме» в 2010-м, в 2010-х годах выводились из эксплуатации энергоблоки постройки 1970-х годов. Впечатляющий рост солнечной и ветровой энергогенерации в Германии примерно с 2000 года, обеспечивший в первой половине 2022 года около 100 ТВт·ч электроэнергии, в основном компенсировал спад в производстве атомной энергии (от 90 ТВт·ч в первой половине 2006 года до 17 ТВт·ч в первой половине 2022-го).
Все это указывает на то, что в ближайшие годы выпадение российского газа приведет к системному кризису в мировой экономике. Для экономик Европы это означает многократный рост цен на газ и электричество, в том числе (в силу особенностей ценообразования на рынках энергии) и в странах с минимальной долей газовой генерации, таких как Франция. Есть вероятность, что правительства могут отказаться от рыночных принципов и ввести регулируемые цены, но они все равно будут оставаться на высоком уровне. Для домохозяйств это будет означать, что ежемесячные платежи вырастут на сотни евро и, возможно, достигнут уровня в 1000 евро. При том что медианный бюджет домохозяйств в «богатой Европе» составляет около 2500 евро в месяц, выпадение его столь значительной доли приведет к резкому снижению покупательной способности населения, его экономической уверенности и готовности тратить деньги. Шоки такого рода обычно приводят к рецессиям.
Для отраслей промышленности с высокой долей затрат на энергию или на газ в качестве сырья наступают тяжелые времена. Это металлургия, металлообрабатывающие производства, химические производства, производство и обработка стекла, производство цемента, стройматериалов и азотных удобрений. Все эти отрасли в Европе резко снижают свою конкурентоспособность — они сохранят ее только в сегменте специализированных товаров с уникальными свойствами (именно так до сих пор выживает японская сталелитейная промышленность).
Полной их смерти ждать, возможно, не следует, но реструктуризации, оптимизации и сокращения практически неизбежны. Перед владельцами стоит тяжелый выбор — закрыться навсегда, переждать кризис в течение нескольких лет или начать реформировать и реструктурировать производства (в частности, переводя их в страны с дешевым газом, не имеющих выхода на внешние рынки). В любом случае в ближайшей перспективе в этих отраслях можно ожидать значительное сокращение производства и рабочих мест.
Следует также иметь в виду, что формально в экономической статистике доля производства относительно невелика, это около 15% по ЕС в целом, тогда как услуги составляют около 65%. Но современная организация производства подразумевает большую долю аутсорсинга, и этот аутсорсинг — IT, финансы, бухгалтерия, опытно-конструкторские работы и т. д. — в статистике часто считается услугами. То есть значительный объем услуг является, по сути, частью деятельности производственных компаний и полностью зависит от их состояния.
Помимо энергетического кризиса, мир может столкнуться с кризисом продовольственным. Природный газ является основным сырьем для производства азотных удобрений, 12% мирового объема которых производится в Европе. Практически все эти заводы сейчас остановлены. Индия и Индонезия, 4-й и 5-й производители азотных удобрений в мире, являются импортерам СПГ, и его стоимость влияет на стоимость их производства. С начала 2021 года мировые цены на азотные удобрения выросли в пять раз. Такой их рост провоцирует снижение использования удобрений, а значит, снижение урожайности и ведет к уменьшению объемов продовольствия.
Все это увеличивает вероятность глубокой рецессии, вызванной не циклическими, а фундаментальными факторами (впрочем, время для циклической рецессии тоже уже настало). Оба ожидаемых дефицита — энергии и продовольствия — сильно проинфляционные. Классический механизм борьбы с инфляцией — это повышение кредитной ставки, в то время как задача предотвращения рецессии требовала бы ее снижать. Но нынешняя рецессия — это не замедление после перегрева экономики, а результат структурных шоков. Вызванный войной и санкциями энергетический кризис накладывается на проблему денежного навеса 2020–2021 годов, когда государства, противодействуя кризису, связанному с карантинными ограничениями, вливали в свои экономики сотни миллиардов долларов и евро субсидий.
Многие из подобных экономических явлений имели место и в 1970-х годах, породив тогдашнюю стагфляцию. 1970-е были довольно тяжелым временем для экономик развитых стран. Именно тогда завершилась эпоха послевоенного экономического роста, известная под названием Wirtschaftswunder (Trente Glorieuses, Milagro español и Miracolo economico italiano). В социально-политической сфере после бурных 1960-х на поверхности вроде бы было достаточно спокойно, но в то же время 1970-е принесли расцвет терроризма — RAF в Германии, «Красные бригады» в Италии. Как теперь стало известно, многие экстремистские движения в Европе поддерживались из СССР.
Именно на политическую нестабильность с большой вероятностью и рассчитывает нынешнее правительство России, запуская энергетическую войну. Модус нынешних отношений России с демократическим миром заставляет опасаться, что поддержка экстремистов снова может стать привлекательной для российских политиков. Правда, в отличие от 1970-х, при всем возможном скептицизме в отношении институтов и строя западных стран, Россия, в отличие от СССР, не может служить привлекательным примером альтернативного пути развития даже для самых наивных граждан.
Все эти шоки потребуют серьезной трансформации производственных цепочек. Значительная часть капитала и производственных мощностей, созданных в расчете на старую структуру цен и энергобаланса, оказывается бесполезной и требует замещения, значительные средства из бюджетов энергоимпортирующих стран и их граждан перетекают в Катар, США, Норвегию и Австралию, замедляя экономический рост в странах-донорах и не слишком помогая странам-реципиентам, чьи экономики могут быть не в состоянии переварить внезапный наплыв богатства. И в целом речь идет о кризисе, который может оказаться тяжелее, глубже, продолжительнее даже кризиса 2008–2009 годов.
4. Стратегический расчет Кремля оказался ошибочным
В короткой перспективе для России ситуация выглядит достаточно благоприятно — сокращение объемов поставок газа компенсировано ростом цен. Даже полное прекращение газовых поставок и потеря газовой выручки для «корпорации „Россия“» будет неприятным, но не слишком страшным явлением — нефть приносит в несколько раз больше. В физическом выражении экспортные поставки составляют примерно четверть портфеля «Газпрома». Их исчезновение означает существенное, но не принципиальное изменение для его операционной деятельности. Конечно, на внутреннем рынке газ продается по ценам в несколько раз ниже экспортных, но затраты на добычу они вполне покрывают. У «Газпрома» остается портфель кредитов, но, чтобы выплачивать их, компания может покупать валюту на внутреннем рынке у других экспортеров.
Кроме того, надо будет финансировать строительство инфраструктуры для «Большого разворота на восток», но здесь «Газпром», видимо, рассчитывает на помощь государства. С учетом того что добыча руды, выплавка металла, производство труб для нового трубопровода — это в основном внутрироссийское производство, при остановке которого государству пришлось бы поддерживать граждан, заводы и города, в которых они базируются, связанные с этим строительством инкрементальные издержки с точки зрения казны могут быть значительно меньшими, чем кажется.
Однако в средне- и долгосрочной перспективе негативные последствия для России выглядят гораздо более серьезными. Европейская газовая выручка будет в лучшем случае частично возмещена выручкой от продажи ямальского газа в Китай, для чего потребуется строительство «Силы Сибири 2». Но все равно туда, видимо, удастся перенаправить от трети до (в лучшем случае) половины газа, шедшего в Европу. На строительство трубопровода уйдет пять лет в оптимистичном сценарии, а скорее всего — 7–10 лет. Китай в качестве торгового партнера-монопсониста окажется жестче Европы, что может повлечь за собой относительно низкие цены. В нефтяном секторе ситуация менее тяжелая: здесь удастся сохранить бóльшую долю продаж при большей диверсификации рынков и иметь более сильную переговорную позицию, невзирая на давление США и их партнеров по ограничению российской нефтяной торговли. Однако и здесь потери все же будут значительные.
Но главное, последствия разворота энергетической торговли нельзя рассматривать в отрыве от последствий общей «великой изоляции» России в связи с войной в Украине. Эти последствия будут определяться не только сокращением валютной выручки от энергетического экспорта, но и значительной изоляцией финансовой сферы, исключением (в значительной мере) из международного разделения труда и затруднением в использовании плодов научно-технического развития, доступных другим странам. О потенциальном масштабе долгосрочных потерь от санкций можно судить по примеру Ирана, который через 43 года после революции 1979 года не восстановил дореволюционный доход на душу населения (с учетом инфляции).
В России сегодня бытует мнение, что россиян после кризисов 1991, 1998, 2008 и 2014 годов ничем не удивишь и что Россия теперь умеет выходить из кризисов быстро и двигаться дальше. Но предыдущие кризисы Россия преодолевала вместе с остальным миром и являясь его частью, а теперь она оказывается в изоляции, как минимум пассивной, а часто и активной. В какой мере российской экономике удастся справиться с этим вызовом, предстоит увидеть, но основные гипотезы, к сожалению, весьма пессимистичные.
При этом — и это, пожалуй, самое важное — Москве пока не удалось превратить энергетическую зависимость Европы в рычаг для достижения своих политических целей.
Перед Первой мировой войной были распространены теории, что войны между великими державами более невозможны, так как их экономики стали слишком взаимосвязаны и война слишком разорительна для всех сторон. Одна из гипотез, лежавшая в основе стратегического плана российско-украинской войны, по всей видимости, предполагала, что торговля с Россией, в первую очередь в энергетической сфере, несет Европе существенные экономические выгоды, от которых Запад вряд ли откажется ради защиты территориальной целостности Украины и ее независимости от российского влияния. Гипотеза была верна в части выгод, но оказалась ложной в части готовности Запада поступиться своим экономическим благополучием в противостоянии с Россией.
Если рассматривать ситуацию в логике теории игр, то можно вспомнить, что в ней важнее не потенциал действий игроков, а то, как другие игроки оценивают вероятность различных ходов противника и их последствия. Игрок А может стараться предотвратить ход игрока Б, объявляя угрозу — свой следующий ход, несущий издержки для самого А, но еще большие — для Б. Если же Б совершает свой ход, несмотря на эту угрозу, то в рамках этой игры для А воплощение угрозы может уже и не иметь смысла. С другой стороны, игрок Б делает ход, оценивая вероятность мщения со стороны А. При этом действия игроков и готовность мстить, несмотря на издержки, могут быть важны не только для текущей игры, но и для того, сколь серьезно будут восприниматься их угрозы в следующих раундах и с другими игроками.
Расчет Кремля строился на том, что на сегодняшний день сценарий исключения российских энергетических поставок является триггером масштабного экономического кризиса, которого Запад всеми силами постарается избежать. При этом сила энергетического рычага будет ослабевать со временем. Как показано выше, к 2025 году эта угроза была бы уже не столь масштабной, как в силу появления на рынке новых значительных объемов СПГ, так и благодаря накоплению элементов энергоперехода — ветряков, солнечных панелей, систем хранения энергии, систем промышленного и бытового энергообеспечения, в которых электричество и водород замещают природный газ. Поэтому попытаться конвертировать рыночную силу в политические дивиденды имело смысл именно сейчас.
Сегодня можно сказать, что стратегический расчет, скорее всего, оказался ложным. Если до февраля Кремль, намекая на свою способность причинять неприемлемый ущерб противнику, поднимал ставки в расчете на «фолд» с его стороны, то сейчас он оказался в ситуации «колла», будучи вынужденным продемонстрировать реальную силу своей руки. Однако при попытке реализации угрозы его позиции оказались не столь выигрышными, как ожидалось, — и в военном, и в экономическом плане. В результате многие страхи Кремля — те потенциальные угрозы и риски, которые он видел в среднесрочной перспективе, в частности — сокращение его влияния на энергетических рынках, — по итогам последних месяцев стали реальностью уже сегодня. Вряд ли Кремль готов легко смириться с подобным положением дел, и, возможно, он попытается предпринять ряд достаточно отчаянных шагов, чтобы переломить ситуацию (мобилизация — явно один из них), но в любом случае сейчас это игра из, как говорят шахматисты, «трудной позиции».
Впрочем, и для Европы этот сценарий обходится достаточно дорого. Его издержки, наложенные на те, что уже были понесены европейцами в противостоянии пандемии, могут привести к серьезным социально-экономическим и даже политическим последствиям, включающим не только изменение промышленного ландшафта, но и уход со сцены старого политического истеблишмента.
