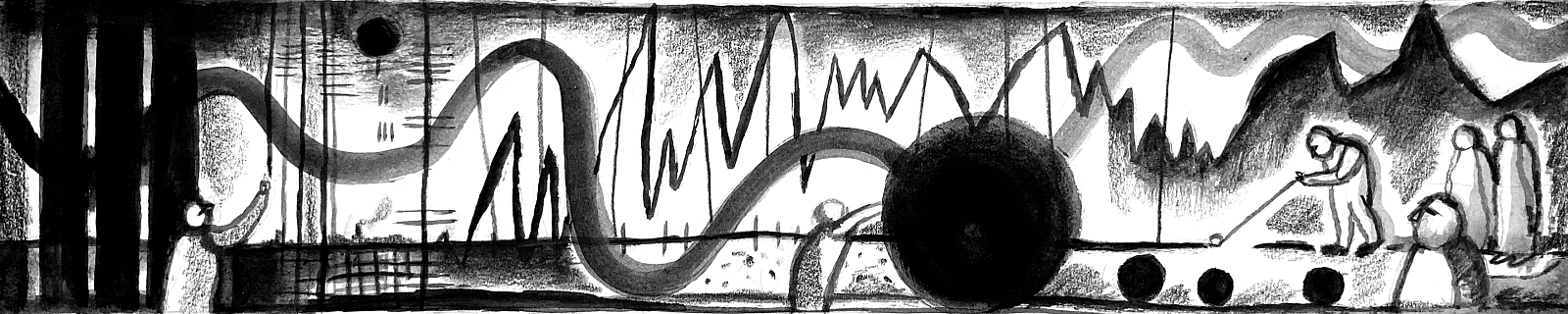
Альтернативная глобализация: станет ли Россия флагманом коалиции экономического антипорядка
Введение широких санкций в отношении российской экономики, не поддержанных многими незападными странами, превратило Россию в центр и двигатель «альтернативной» глобализации. Речь не идет о лидерстве России в БРИКС или среди стран глобального Юга — здесь ее роль, наоборот, маргинализовалась. Однако Россия превращается в общемировую лабораторию сопротивления санкционному давлению.
Опасным следствием этого становится формирование экономической модели, основанной на массовом нарушении прав интеллектуальной собственности, непрозрачной внешней торговле, которая опирается на собственную инфраструктуру, и использовании нетрадиционных форм международных расчетов.
Если в начале XXI века основной движущей силой «альтернативной» глобализации были криминальные объединения и сети, то сегодня их место заняли государства-изгои, объединяющиеся во всемирную коалицию, противостоящую тем принципам глобализации, которые определяли ее ход прежде.
Кремль видит возможности институционализации этой модели для удовлетворения своих геополитических притязаний, пытаясь играть роль лидера отвергнутого Западом экономического мира, считает экономист Владислав Иноземцев.
Преодолеть это сопротивление силой Западу вряд ли удастся. Чтобы вернуться в эпоху либеральной глобализации, необходимо найти новый подход к глобальной периферии и соблазнить ее так же, как это было сделано сорок лет тому назад.
Деформации глобализации
В последнее время принято считать, будто бы глобализация, под знаком которой прошло вот уже несколько десятилетий, уходит в историю, сменяясь очередным периодом нарастания экономической автаркии. Эта точка зрения кажется очень убедительной — ведь сегодня политики активно говорят то про повышение импортных тарифов, то про введение запретительных санкций, то про потребность в наращивании оборонных расходов ввиду приближения новой войны.
Тренды кажутся похожими на те, что остановили глобализацию рубежа XIX и XX столетий, заморозив развитие международной экономики как минимум на полвека. Но при ближайшем рассмотрении это сравнение не может приниматься всерьез. Если с 1913 по 1938 год отношение объема международной торговли к общемировому ВВП упало с 21% до менее чем 9%, то за последние десять лет оно выросло с 27,2 до 31%. Прирост экспорта товаров и услуг в номинальном выражении за это время составил около 60%, а итоговая цифра приблизилась к новому историческому максимуму на уровне в $33 трлн. Если в первом случае отношение объемов накопленных прямых иностранных инвестиций к ВВП США рухнуло почти втрое, до 1,9% ВВП, то во втором — увеличилось почти в полтора раза, до 41,1% ВВП.
Однако ощущение исчерпанности либеральной глобализации от таких сравнений не исчезает — и на то имеется множество причин. На мой взгляд, за последние десять лет возникло два тренда, которые не могут не приниматься во внимание при взгляде на современную мировую экономику.
Первый формировался как минимум начиная с кризиса 2008–2009 годов и принял свои окончательные очертания в период пандемии 2020–2021-го. Основой его были своего рода фрагментация мира и кристаллизация двух различных моделей хозяйственного роста. С одной стороны, стали заметны как успехи, так и проблемы западной экономики, основанной на символических ценностях и смыслах, сетевой структуре взаимодействия, индустрии программных продуктов. Здесь происходило формирование того типа постиндустриальной экономики, в которой создание каждой новой единицы продукции зачастую выступает не воспроизводством, а копированием оригинала. В этих реалиях основная ценность заключена в know-how исходного продукта или в смысле, который в него заложен. А процесс его мультипликации не требует и толики тех труда и ресурсов, которые воплощены в оригинале. Примеров масса: изобретение компьютерного софта требует огромных усилий, а его скачивание — почти никаких, к тому же цена легальной программы имеет отдаленное отношение к стоимости ее разработки; создание лекарства является крайне дорогостоящим процессом, а его массовое производство — нет; и даже пошив платья или сумки от модного кутюрье несет на себе отпечаток творчества, в конечном счете в большей мере определяющего ценность товара, чем труд портного и стоимость шелка или кожи (→ Владислав Иноземцев: Экономика без догм).
С другой стороны, в этот же период продолжалось бурное развитие новых индустриальных экономик, которые сделали ставку на массовое производство сначала довольно примитивных, а позже и более совершенных товаров, главным преимуществом которых были вовсе не символические, а непосредственно потребительские свойства. Для производства каждой новой единицы требовались относительно сопоставимые затраты усилий и сырья, но массовое производство обеспечивало высокие прибыли, а низкая цена завоевывала этим товарам огромные рынки.
Центрами двух этих типов глобализации условно следует назвать атлантический мир (с лидирующей ролью США и определенными различиями в методах конкуренции от страны к стране) и Китай (ставший сегодня первой индустриальной державой планеты). Несколько лет назад я подробно описал эту модель, используя понятие «соперничающие глобализации» (→ Владислав Иноземцев: О перипетиях «глобализации»). С огромным количеством допущений данный процесс можно сравнивать с эпохой холодной войны, где имелись два экономических блока с разными видениями мира. Однако в то время между ними не существовало столь тесных хозяйственных связей и, что даже более существенно, они основывались на разных экономических базисах, тогда как в основе обеих нынешних моделей лежат схожие рыночные тренды и закономерности.
От «конкурирующей» глобализации к «альтернативной»
В начале 2020-х годов я делал вывод о том, что мы имеем дело с жесткой, но по преимуществу мирной конкуренцией хозяйственных систем, связанных друг с другом чрезвычайно прочно и поэтому не заинтересованных в нанесении друг другу масштабного ущерба. Несмотря на неожиданности, выявившиеся в ходе пандемии, и стремление компаний и стран добиваться «дерискинга» там, где прежде они смело шли на расширение аутсорсинга, сомневаться в перспективности модели цивилизованной и управляемой глобализации как таковой не было оснований.
Однако события, спровоцированные агрессией России против Украины, ответом западных стран на это вопиющее нарушение международного права и попытками Кремля сплотить немногочисленных сторонников и увильнуть от соблюдения санкционных ограничений, породили совершенно новый феномен, который можно назвать уже не «конкурирующей», а «альтернативной» глобализацией, имея в виду, что речь идет не столько об автаркии, сколько о создании пространства международного сотрудничества нового типа, пренебрегающего ранее признанными правилами. «Игра без правил», о которой кремлевские стратеги рассуждали уже довольно давно, в данном случае становится базисом для совершенно новых, невиданных уже довольно давно процессов.
Элементы этой «альтернативной» глобализации были заложены давно — и даже описаны некоторыми исследователями. Лучше всего их постиг Мойзес Наим, который в двух своих известных работах, «Незаконный оборот» и «Пять войн глобализации», указал на то, что новые тренды однозначно угрожают сложившемуся либеральному миропорядку и его экономическим основам. В последние годы изменилась лишь субъектность этой «альтернативной» глобализации: если на рубеже XX и XXI веков ее движущей силой были криминальные объединения и сети, то сегодня их место заняли государства-изгои, объединяющиеся во всемирную коалицию, противостоящую глобализации, которую мы знали в течение последних десятилетий.
Этот сдвиг также не случился за несколько дней. Его первые проявления можно было видеть в Венесуэле при Уго Чавесе, где государственная нефтяная компания PDVSA получала свои валютные доходы на подставные счета в офшорных зонах, чтобы затем ввозить в страну наличные доллары, обменивая их на боливары по рыночному курсу и платя зарплату своим сотрудникам по фиксированному. Или в Иране, продающем свою нефть Китаю под видом малайзийской и получающем оплату за нее не на банковские счета, а с использованием различных схем хавалы. Но только с превращением России в крупнейшую и самую агрессивную страну-изгоя в мире эти криминальные схемы приобрели невиданные прежде глобальные масштабы, затронув десятки отраслей промышленности и сферы услуг и коснувшись многих экономик.
Что именно случилось за это время и в чем именно Кремль преуспел, создавая инфраструктуру «альтернативной» глобализации? Я перечислил бы только несколько моментов.
Во-первых, впервые одна из крупнейших мировых экономик официально отказалась от соблюдения прав интеллектуальной собственности. Хотя кто только не занимался промышленным шпионажем и изготовлением подделок до этого, на государственном уровне такая политика была провозглашена, кажется, впервые. Столкнувшись с западными санкциями, российское правительство «разрешило» местным компаниям выпускать лицензионную продукцию без соблюдения патентного права и выплат роялти, если та была «жизненно необходима» потребителям.
В результате с марта 2022 года, когда было принято соответствующее постановление правительства, бизнес может использовать изобретения, образцы и промышленные модели из стран, входящих в список «недружественных», и законно не платить им компенсацию. Сначала в эту категорию попали лекарства, медицинская техника и другие виды продукции, но затем рухнула вся система правообладания для компаний из «недружественных» стран. Само это понятие я бы тоже счел одним из инструментов «альтернативной» глобализации. Например, когда западные кинопроизводители и стриминговые платформы покинули российский рынок, кинотеатры начали демонстрировать пиратские копии новейших американских и европейских фильмов. Западное программное обеспечение также стало незаконно копироваться и не только использоваться в стране, но и продаваться клиентам в Африке и Восточной Азии. Поскольку многие иностранные IT-компании отказались сотрудничать с российскими контрагентами, провайдеры продолжали использовать, например, их облачные сервисы без соответствующей платы, взимая ее между тем со своих клиентов.
Примеров такого рода можно привести очень много, и подобная практика приносила и приносит российскому бизнесу огромные выгоды, удерживая внутренний рынок целого ряда товаров и услуг от разрушения. Кремль, разумеется, заявляет, что все данные меры носят временный характер, и чуть ли не намерен выплатить «замороженные» роялти, но факт остается фактом: в мире возникла страна, легализовавшая интеллектуальное пиратство.
Во-вторых, тем же мартовским постановлением российское правительство смягчило — а по сути, отменило — многие требования, ранее предъявлявшиеся к импортерам. С середины 2000-х годов в России формировалось жесткое законодательство о защите прав потребителей — и компаниям-импортерам предписывалось заключать дилерские соглашения с производителями, предоставлять всю техническую документацию на русском языке, проводить испытания товара на соответствие российским стандартам, осуществлять гарантийные ремонт и обслуживание и т.д. В 2022 году почти все эти требования были сняты, и теперь любая компания может купить смартфон, компьютер или бытовую технику, произведенную любой компанией в любой другой стране, и ввезти их в Россию без каких-либо сертификатов и инструкций.
Такой «параллельный импорт» формально нельзя назвать контрабандой, поскольку ряд пошлин и налогов по-прежнему уплачивается, но он отличается от общепринятой практики, поскольку обнуляет многие обязательства перед производителями. В итоге он стал спасением для российского рынка, не дав потребителям ощутить все последствия санкций, — по официальным данным, уже в 2022 году объем параллельного импорта превысил $20 млрд. Те же самые смартфоны и по сей день оказываются доступны российским потребителям одновременно с пользователями в других странах (хотя и по гораздо более высоким ценам) и работают в России так же, как и в остальном мире.
В-третьих, российские фирмы, обеспокоенные европейскими энергетическими санкциями, запретом ЕС на российскую нефть и попыткой ввести «ценовой потолок», предприняли при действенной помощи правительства смелую попытку сколотить собственный танкерный флот, в то время как до этого большая часть российской нефти, экспортировавшейся по морю, перевозилась чужими судами (зарегистрированными в юрисдикциях с низкими налогами, но принадлежавшими греческим, мальтийским или кипрским компаниям и имевшими страховки от европейских корпораций). К середине 2023 года Россия по бросовым ценам скупила тысячу устаревших нефтеналивных судов и начала перевозить свою нефть без помощи Запада (→ Re: Russia: Теневой флот России).
Чтобы эффективнее обойти санкции и уклониться от требований ограничения цен на нефть, российский теневой флот начал действовать тайно — его суда часто отключали транспондеры, чтобы сохранить в тайне свой маршрут, а также перекачивали нефть и нефтепродукты на другие танкеры в открытом море. Подобная практика крайне опасна: некоторые суда давали течь, нанося значительный ущерб окружающей среде, при этом страховые риски теневого флота не обладают полноценным покрытием. Совсем недавно подтверждение этому было получено в российских территориальных водах, где два явно не предназначенных для плавания в открытом море маломерных танкера были выброшены на мель, спровоцировав экологическое бедствие на берегах Черного моря. Однако поскольку эта практика несет в себе большие выгоды, не приходится сомневаться, что ее рано или поздно переймут другие государства, столкнувшиеся с ограничениями на внешнюю торговлю в эпоху расширенного применения международных санкций.
В-четвертых, следует также упомянуть, что Россия de facto легализовала как вооруженное наемничество, так и неограниченную торговлю оружием и боеприпасами, включая сделки со странами, находящимися под санкциями ООН, поддержанными в том числе и Москвой (например, с Северной Кореей и Ираном, у которых россияне покупают снаряды, ракеты, беспилотники и т.д.). Более десяти стран уже подтвердили, что российские власти пытались обманом или силой вербовать их граждан в свою армию, а премьер-министру Индии пришлось даже вести переговоры с президентом Владимиром Путиным об освобождении десятков индийских граждан, которые удерживались в российской армии в зоне военных действий (что не остановило российскую вербовку в других регионах мира). При этом российские власти стремятся скрыть все доказательства незаконной торговли, отправляя корабли в Северную Корею и Иран или перемещая эшелоны из Северной Кореи в Сибирь в условиях строгой секретности. Это же относится к контрабанде комплектующих для военных производств и продукции двойного назначения.
По мере того как западные державы, особенно США, усиливают санкционное давление на страны-посредники, в первую очередь на Китай, эта контрабанда становится все более изощренной и в нее вовлекается множество стран-посредников. С другой стороны, и российские товары попадают к покупателям через третьи страны, которые нарушают западные санкции (например, Армения, вопреки требованиям седьмого пакета санкций ЕС, в этом году увеличила экспорт золота в 17 раз, причем почти весь этот прирост пришелся на банальный реэкспорт российского золота). Не будет большим преувеличением утверждать, что в последнее время по периметру России возникает целая коалиция государств, помогающих ей осуществлять нелегальные операции.
В-пятых, и это самый важный момент, возникает система расчетов, разработанная российскими, индийскими, китайскими и другими компаниями для обхода ограничений, налагаемых западными финансовыми властями. По мере ужесточения санкций эти расчеты стали производиться в валютах третьих стран (например, переводы из Индии осуществляются через ОАЭ в дирхамах), через офшорные юрисдикции (например, Сингапур или Гонконг), с помощью криптовалют и хавальных схем. Сегодня деньги, отправленные из Москвы, можно получить практически в любом крупном городе на любом континенте менее чем за два часа, причем стоимость этого «перевода» будет примерно в два раза ниже, чем та, которую до войны для переводов из России предлагал платежный сервис Western Union.
В последнее время страны так называемого мирового большинства, как они сами себя именуют, начинают мечтать если и не о создании альтернативной резервной валюты, то об учреждении нового механизма расчетов и независимой клиринговой системы, которая позволит переводить деньги без предоставления какой-либо информации западным центральным банкам и финансовым органам (→ Re: Russia: БРИКС минус). Вполне может оказаться, что, вводя санкции против банков этих стран в попытке утвердить монополию долларовых или евро-деноминированных транзакций, правительства США и ЕС будут способствовать долгосрочному подрыву особого статуса своих валют на международной арене.
Глобализация или вестернизация?
Попытка построения отдельной финансовой системы кардинально отличается от стратегий, которых русские (арабы, китайцы и т.д.) придерживались раньше, когда они стремились проникнуть в западную финансовую среду, чтобы стать частью «золотого миллиарда». Многие российские магнаты открывали офшорные компании и счета в банках Швейцарии, Люксембурга, Монако и Лондона, легализовывали свои активы, нанимая юристов по всей Европе, и инвестировали в недвижимость или промышленные компании в западных странах. В те времена, когда этот бизнес процветал, аналитики рассуждали о «коррумпировании» западной финансовой и судебной систем и в этих оценках были совершенно правы. Подобное стремление «интегрироваться» в Запад обеспечивало рост его влияния в мире и сосредоточение капиталов в мировых финансовых столицах (я назвал это «третьим колониализмом»). Сегодня же мы наблюдаем обратный тренд: глобальный Юг стремится выстраивать свою собственную финансовую систему и новые центры притяжения богатства, такие как Дубай или Гонконг. Используя созданные на Западе инструменты, в частности криптовалюты и блокчейн-транзакции, он идет по пути той самой «альтернативной» глобализации, которую Запад может оказаться не в силах контролировать.
«Альтернативная» глобализация связана со стремлениями ряда ревизионистских держав создать «новый миропорядок» взамен того, который сформировался в 1990-е годы в условиях несомненного доминирования западного мира. Такие попытки совершались и раньше, но до поры до времени оставались не более чем раздражающими Запад экспериментами, которые не получали широкой поддержки даже там, где западные принципы прививались довольно слабо. Война России против Украины резко активизировала процесс «альтернативной» глобализации — и не столько потому, что страны периферии оценили безрассудную путинскую авантюру, сколько потому, что западные правительства стали ограничивать экономические свободы посредством санкций (далеко не полностью легитимных — ведь они вводятся не ООН и другими уполномоченными организациями и вовсе не всегда адекватным образом аргументированы). Я не считаю, что санкционная политика безосновательна — она, несомненно, является вынужденным и очевидным ответом на беззаконные действия России. Но факт остается фактом: политика, которую проводят западные державы, стимулирует «альтернативную» глобализацию и подталкивает мировую периферию к единению если не в противостоянии Западу, то в попытках защититься от его политики.
Либеральная глобализация в том виде, в каком мы знали ее с 1990-х годов, была выстроена вокруг экономической, социальной и культурной «харизмы» Запада, его очевидной привлекательности, усиленной в том числе и очень неблаговидным образом его главного противника, коммунистического мира, а также явной неспособностью нерыночных и недемократических режимов обеспечить подданным хотя бы средний уровень материального достатка. Со временем (и по мере успеха либеральной глобализации) Запад осознал себя не как одну из альтернативных моделей развития, а как некое совершенство (что, собственно, и было отражено в знаменитой теории «конца истории»). С этих позиций он начал действовать совсем иначе, чем прежде, — не через стимулирование тех, кто мог бы с ним солидаризоваться, а через наказание несогласных или недовольных. Осуждать западный мир за такой подход я не считаю возможным — но предполагать, что он не встретит сопротивления, было попросту недальновидным. Чем больше западные державы продолжат применять в отношении остального мира санкционные методы, тем более популярной будет становиться «альтернативная» глобализация и тем менее упорядоченным окажется мир XXI века.
Глобализация конца ХХ века была процессом, который был обусловлен существовавшими на тот момент трендами. Она не направлялась западным миром, а возникла из открытых им возможностей — из свободной рыночной экономики, из демократического типа правления, из новых технологических достижений, из культурных перемен, обусловленных приоритетом доктрины прав человека. Свой вклад в нее вносили все (или почти все) страны и народы — безотносительно к тому, насколько это кому-то нравилось или нет.
Сегодня мы наблюдаем, скорее, уже не либеральную глобализацию, а процесс, имевший место сто с небольшим лет назад, — тот, который принято называть не глобализацией, а вестернизацией (→ Von Laue: The World Revolution of Westernization). Вестернизация как распространение неких порядков из единого центра и прежде вызывала сопротивление — но тогда оно было локальным, в то время как сейчас принимает воистину глобальный масштаб. Преодолеть силой это сопротивление Западу вряд ли удастся. Чтобы вернуть эпоху либеральной глобализации, надо будет найти новый подход к глобальной периферии и соблазнить ее так же, как это было сделано сорок лет тому назад. Задача эта, однако, сейчас выглядит намного более сложной, чем прежде, — хотя бы потому, что многие технологии и практики, которые прежде казались достоянием одного только Запада, сегодня доступны практически всем, а пресыщение изобилием распространилось далеко за пределы западного мира.