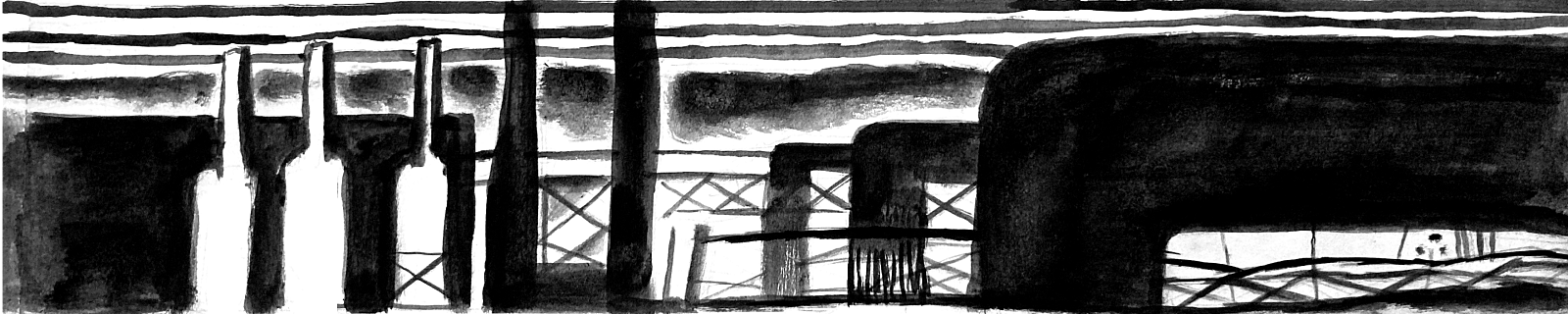
«Российская модель» в поисках безработицы: специфика российского рынка труда мешает ему адаптироваться к структурным сдвигам
Дефицит на рынке труда внезапно стал одной из главных проблем российской экономики. Бюджетные заказы резко повысили спрос на труд в оборонном секторе и обрабатывающей промышленности. Дефицит рабочих рук провоцирует ажиотажный спрос и рост зарплат, которые распространяются на смежные сектора и вносят вклад в перегрев экономики и инфляцию.
Особую остроту этой ситуации придает специфика российской модели рынка труда, сложившейся в постсоветские десятилетия. В ее основе лежат три характеристики: низкое пособие по безработице, низкая минимальная оплата труда и высокие издержки на увольнение. Такая модель обеспечивает низкую формальную безработицу и позволяет рынку хорошо адаптироваться к кризисам. Это достигается за счет большой доли неформальной, низкооплачиваемой и низкоэффективной занятости, которая абсорбирует потенциальную безработицу.
Такая модель характерна для многих стран с развивающимися рынками и противоположна модели развитых экономик, где высокий порог минимальной зарплаты и пособий ведет к более высокой безработице, но позволяет вымывать с рынка низкоэффективные рабочие места. Эта модель способствует структурной перестройке экономики, в то время как российская такую перестройку скорее тормозит. На первый взгляд, говорить о безработице в момент дефицита рабочей силы — нонсенс. На самом же деле безработица и сопутствующая ей институциональная конфигурация рынка обеспечивают более эффективную релокацию рабочей силы в условиях тех или иных структурных или конъюнктурных сдвигов. Однако переход к такой модели сопряжен со значительными социальными и политическими издержками, а потому маловероятен.
Публикация подготовлена Re: Russia в сотрудничестве с проектом «Академические мосты» по итогам семинара «Экономическая модель современной России».«Российская модель рынка труда»: природа и последствия
В 2000–2010-е годы главной проблемой для российского рынка труда была неспособность экономики создавать рабочие места высокой производительности: занятость была высокой, но значительная часть ее была малопродуктивной. И эта малопродуктивная занятость, которая функционировала как «губка» и занимала большую долю в общей структуре рабочей силы, поддерживала состояние рынка труда без безработицы или с низкой безработицей.
Сегодня основной проблемой считается нехватка рабочей силы. Об этом говорят все: работодатели, чиновники, эксперты. Что это такое? Трудности с наймом работников, потому что нет ни безработицы, ни резервов вне рабочей силы. При этом в самом факте сегодняшнего «дефицита» работников нет ничего специфически российского, с этим сталкиваются все развитые страны. Постковидное восстановление экономик создало спрос на дополнительный труд, для которого нет соответствующего предложения. Это проявляется в росте числа вакансий, которые трудно заполнить. Отсюда дополнительное инфляционное давление. Например, в американских городах сплошь и рядом можно увидеть в витринах магазинов, парикмахерских, каких-то офисов, ресторанов, баров таблички «Мы нанимаем», «Нужны работники».
Конечно, конкретные детали возникновения и проявления этого дефицита везде свои. На ситуацию на российском рынке труда я хочу взглянуть немного сверху и со стороны. Надежных цифр, на которые можно положиться, у нас крайне мало; те цифры, которые есть, часто трудно поддаются интерпретации. Для того чтобы понять, что «сидит» внутри них, нужны дополнительные исследования, которые сейчас практически невозможны.
Какова предыстория того, что мы наблюдаем сегодня? Почему нет резерва рабочей силы? Начнем с недавней истории. В 1990-е годы в стране сформировалась специфическая модель, которую мы называли «российской моделью рынка труда». Ее предпосылки сложились еще в конце 1980-х в ходе попыток оживить «хозрасчет» для государственных предприятий. Им дали больше свободы в материальном стимулировании работников, но не в увольнении лишних. Эта модель укрепилась в 2000-е годы и продолжила свое существование в 2010-е. Суть ее очень простая: зарплата крайне гибкая, а занятость жесткая, и это полная противоположность тому, что есть в развитых рыночных экономиках, где зарплата жесткая, а занятость в той или иной степени гибкая. Но вот такая обратная гибкость через приспособление трудовых издержек обеспечивала подстройку рынка труда ко всем шокам, удерживая безработицу на низком уровне. А если безработица подскакивала, то затем очень быстро сокращалась. Все кризисы в течение последних 30 лет рынок труда преодолевал подобным образом.
Такая модель базируется на определенной институциональной конфигурации. Во-первых, это низкий порог зарплаты за счет низких пособий по безработице и низкой минимальной зарплаты, что дает гибкость вниз. Зарплата может идти вниз, поскольку порог низкий. Во-вторых, переменная часть в заработках может идти вверх. А она состоит не только из официальных премий, бонусов, надбавок, но и из зарплат в конвертах. То есть распределение по зарплате легко растягивается как пружина в обе стороны. В-третьих, жесткость занятости в компаниях обеспечивалась за счет высоких финансовых и административных издержек массовых увольнений. Адаптация же через индивидуальное «выпихивание» требует времени и не имеет массового характера.
Таким образом, эта модель обеспечивала минимизацию безработицы за счет растягивания низкооплачиваемой занятости. Сюда относится также всякая случайная занятость, временная занятость, неполная занятость, полу- и неформальная занятость. В целом, все это низкооплачиваемые и социально незащищенные рабочие места. Даже если это легальные и зарегистрированные рабочие места, они существуют вне трудового законодательства, которое вносит свой значительный вклад в издержки. Логика поведения индивидов в рамках такой модели определяется тем, что низкое пособие по безработице не дает им возможности долго искать работу, сокращая период поиска (то есть безработицы). Если человек потерял работу, ему нужно делать хоть что-то ради дохода — кого-то подвести, кому-то переклеить обои, за кем-то там поухаживать, кому-то помочь. Этот рынок абсорбирует ту занятость, для которой не находится качественных рабочих мест, и частично заменяет безработицу.
Структура экономики оказывается, по сути, двухслойной. Один слой — это крупные и средние предприятия, а также «бюджетники». Для них есть Трудовой кодекс и какие-то прописанные в нем правила. Росстат в своих месячных отчетах дает данные именно по этому сегменту, который насчитывает примерно где-то 32 из 70 с лишним млн работников. Другой сегмент включает всех остальных — от малых предприятий до неформальных самозанятых, для которых Трудовой кодекс является полной абстракцией. В обоих сегментах есть многочисленные массовые профессии свободного входа: водители, продавцы, курьеры, охранники — такую работу получить относительно легко, для этого не нужны специальные навыки, и эти профессии в результате стали очень-очень многочисленны. В них огромная текучка и, соответственно, новый наем.
Эта модель не являлась чем-то уникальным — во многих странах с низким и средним доходом мы видим что-то подобное. Международная организация труда (МОТ) хорошо знает этот феномен, и в ее документах отмечается, что стандартные показатели безработицы и занятости к странам, в которых социальная защита слабая или отсутствует, плохо применимы. Соответственно, статистика тоже должна это каким-то образом учитывать, но полностью не учитывает. При такой модели безработица как политическая цель достигается практически автоматически. Мы получаем полную занятость и минимальную безработицу. И здесь можно сказать «ура!». Но вот ситуация изменилась, и «ура» стало со знаком вопроса.
Кризисы начала 2020-х и источники ажиотажного спроса
В 2020 году пришел ковид, и то, что мы видим сейчас, трудно понять и интерпретировать, если про ковид забыть. Когда началась пандемия, безработица уже была низкой. Во время пандемии массовых увольнений не было, как их не было практически нигде в мире, кроме Соединенных Штатов. Но отток с рынка был: например, люди уходили на пенсию или вообще из жизни. Найм новых работников был заморожен, при этом скрытый спрос на труд сохранялся, но не удовлетворялся. Ковид прошел, начался восстановительный рост, и тут выяснилось, что на рынке труда нет свободного предложения, потому что безработица низкая, а вне рабочей силы тоже нет потенциальных резервов (уровень занятости очень высокий). Начали расти вакансии и зарплаты, что стало заметно еще в 2021 году. При этом по отраслям и предприятиям рост зарплат при полной занятости оказывается неравномерным: тот, кто может платить больше, переманивает работников у менее платежеспособных соседей. Но когда вы нанимаете безработного, вы тем самым ликвидируете вакансию и сокращаете безработицу. А когда безработицы нет и свободных резервов рабочей силы нет, то, переманивая человека и закрывая одну вакансию, вы тут же создаете другую. Учитывая, что во многих компаниях и отраслях (торговля, строительство, транспорт) оборот рабочей силы всегда был очень высоким, начавшийся процесс «переманивания» ведет к дальнейшему раздуванию этого оборота и созданию все новых вакансий. Это, в свою очередь, ведет к тому, что компании, видя ажиотаж на рынке и угрозу переманивания работников, могут создавать не одну, а несколько вакансий вслед ушедшему человеку. То есть рост зарплат при полной занятости ведет к созданию новых вакансий. Угроза любого дефицита (и дефицита рабочей силы тоже) ведет к ажиотажному спросу — это общая закономерность. Вакансии не закрываются, и их число увеличивается — это бесконечная гонка, пока рост зарплат не упрется в потолок бюджетных ограничений.
Ситуация последних двух лет еще более обострила проблему. Спрос на труд стал, как мы знаем, накачиваться бюджетными деньгами в определенных секторах, в которых нужно много труда средней квалификации. Потребовался быстрый структурный маневр в экономике. Но этот структурный маневр упирается в ограничение со стороны предложения труда, а мобилизация, эмиграция и сокращение иммиграции ситуацию еще более усугубляют. И в результате мы видим массовые жалобы на дефицит рабочих рук.
Новый спрос и соответственно переманивание рабочих исходят преимущественно из сегмента крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности (более-менее значимой). Этот пул предприятий по численности занятых относительно небольшой. Но промышленное предприятие вряд ли будет массово нанимать работников, которые до того работали грузчиками в магазине. Ему все-таки нужны люди с определенными навыками. Можно, конечно, затыкать какие-то дыры с помощью вахты, трудовой мобилизации, командировок и т.д., и компании очень умелы по части придумывания разных способов адаптации. Но структурные сдвиги предполагают массовую релокацию, которая невозможна без свободного пула рабочих рук, то есть без заметной фрикционной и структурной безработицы и без сопутствующего массового переобучения. Но переход к такой модели мобильности рабочей силы — через безработицу и переобучение — политически, институционально и технологически достаточно сложен.
Из помесячных данных Росстата мы видим, что по всем крупным и средним предприятиям за два года (ноябрь 2023-го к ноябрю 2021-го) среднесписочная численность занятых практически не увеличилась, здесь рост всего на 0,5% за этот период. То есть занятость, несмотря ни на что, остается примерно стабильной. Если мы берем обрабатывающие производства в целом (кстати, в сегменте крупных и средних предприятий обрабатывающие производства составляют относительно немногочисленный сектор — в них занято где-то немногим более 5 млн человек), то здесь рост на 4,4%. Если же мы выделим те подотрасли, которые, скорее всего, связаны с ВПК, рост будет 9%. В этих данных виден структурный сдвиг, но его источник, то есть откуда пришла эта дополнительная занятость, и фактический масштаб неясны.
Дополнительный туман связан с тем, что Росстат использует довольно хитрый концепт «среднесписочной численности». Это число людей, скорректированное с учетом отработанных часов. Если два человека работают по полторы смены, то в отчетности будет три человека, а не два. Мы не знаем, в какой мере рост занятости связан с увеличением количества часов, отработанных тем же работником. Но скорее всего, такой эффект присутствует, потому что в условиях дефицита рабочей силы первый способ увеличения резервов труда — это увеличение продолжительности рабочего времени. Но есть ограничения — физические и финансовые: люди не могут работать бесконечно, а за сверхурочные часы нужно платить больше. В результате нередко компании используют сверхурочных работников, не показывая это в отчетности. Но если мы посмотрим на динамику часов, то увидим, что как раз в отраслях, которые, скорее всего, связаны с ВПК, количество рабочих часов увеличилось. Но сколько их недоучтено, сказать трудно.
Кризис «российской модели»: в поисках безработицы
Чтобы в условиях демографических и миграционных ограничений решить проблему дефицита работников в пользу тех отраслей, которые сегодня больше всего, как считают власти, нужны и которые нуждаются в рабочей силе, необходимы ее свободные резервы. И их можно получить только через какую-то безработицу, потому что других резервов нет. Но безработицу создать в рамках сложившейся модели рынка труда невозможно, на это есть и институциональные, и политические ограничения. И это выглядит как практически нерешаемая проблема.
Демографическая ситуация в России продолжает ухудшаться, а значит, ограничения для рынка труда усиливаются. Они проявляются не только в том, что будет сокращаться численность населения в рабочих возрастах, — не менее серьезной проблемой является «размоложение» (по выражению Р. Капелюшникова) занятости, то есть быстрое сокращение численности молодых работников в структуре рабочей силы. Например, информационные технологии, на которых многое держится, — вотчина молодых людей. Основной структурный маневр в экономике сегодня связан с возвратом к трудозатратным технологиям, требующим, как правило, большого числа физически здоровых людей со средней квалификацией, которых, как мы видим, нет.
Если деньги на зарплаты закончатся, переманивать работников станет труднее, а деньги рано или поздно должны закончиться. Даже несмотря на тот бюджетный импульс, который получили компании, дальнейшее повышение зарплат дается все сложнее и сложнее. И этот ресурс перемещения рабочей силы также будет исчерпан. Единственный путь, который в этой ситуации остается, — это насильственное сжатие второго сегмента рынка труда, который находится вне крупных и средних предприятий. (Я здесь не говорю про такой резерв, как рост производительности труда. Про это рассуждать намного проще, чем этого добиться.) И сейчас уже встречаются разговоры о том, что расплодилось слишком много самозанятых, а чем они заняты и сколько платят в бюджет налогов, не совсем понятно. Отсюда могут вырасти идеи, как этих самых самозанятых поприжать, чтобы они пошли трудиться на заводы и фабрики.
В целом можно сказать, что та институциональная модель, которая обеспечивала полную занятость и позволяла правительству гордиться своими успехами в борьбе с безработицей, которая у нас ниже, чем где бы то ни было на свете, сегодня стала специфическим и серьезным ограничением. Она плохо сочетается с отсутствием пула свободной рабочей силы. И структурный маневр, который наблюдается в обрабатывающей промышленности, и отток рабочей силы лишь усиливают вызовы, стоящие перед ней. Как она с ними справится, не берусь предсказывать.
Казалось бы, в ситуации фронтального дефицита рабочей силы даже теоретическое допущение о росте безработицы кажется полной бессмыслицей. Однако, если одной из ключевых институциональных черт российской модели является низкий порог заработной платы, то, например, значительное (двух-трехкратное) повышение пособия по безработице вкупе с облегчением доступа к нему само по себе может существенно сдвинуть вверх зарплатное равновесие. (Но есть и другие рычаги для этого порога.) Стимулы держаться за низкооплачиваемые места ослабнут. Итогом станет повышение средней и минимальной цены труда, сопровождающееся высвобождением тех, кто по своей производительности не может дотянуть до нового зарплатного минимума.
Именно по такому пути в начале 90-х годов шли страны Центральной и Восточной Европы, перед которыми стояла задача реструктуризации своих экономик. Относительно высокий уровень социальной защиты (пособий по безработице) выдавил здесь малопроизводительных работников со своих рабочих мест и стал одним из факторов высокой безработицы в начале переходного периода. Это ускорило структурную перестройку экономики в этих странах, в то время как российская модель способствовала адаптивности рынка труда к разнообразным кризисам, но структурную перестройку скорее тормозила. Так что граница между дефицитом и безработицей не является бетонной стеной, а зависит, при прочих равных, от принятой институциональной конфигурации рынка труда, которая, в свою очередь, имеет гораздо более широкие последствия для экономики, чем принято считать.
